Костёр 1967-04, страница 25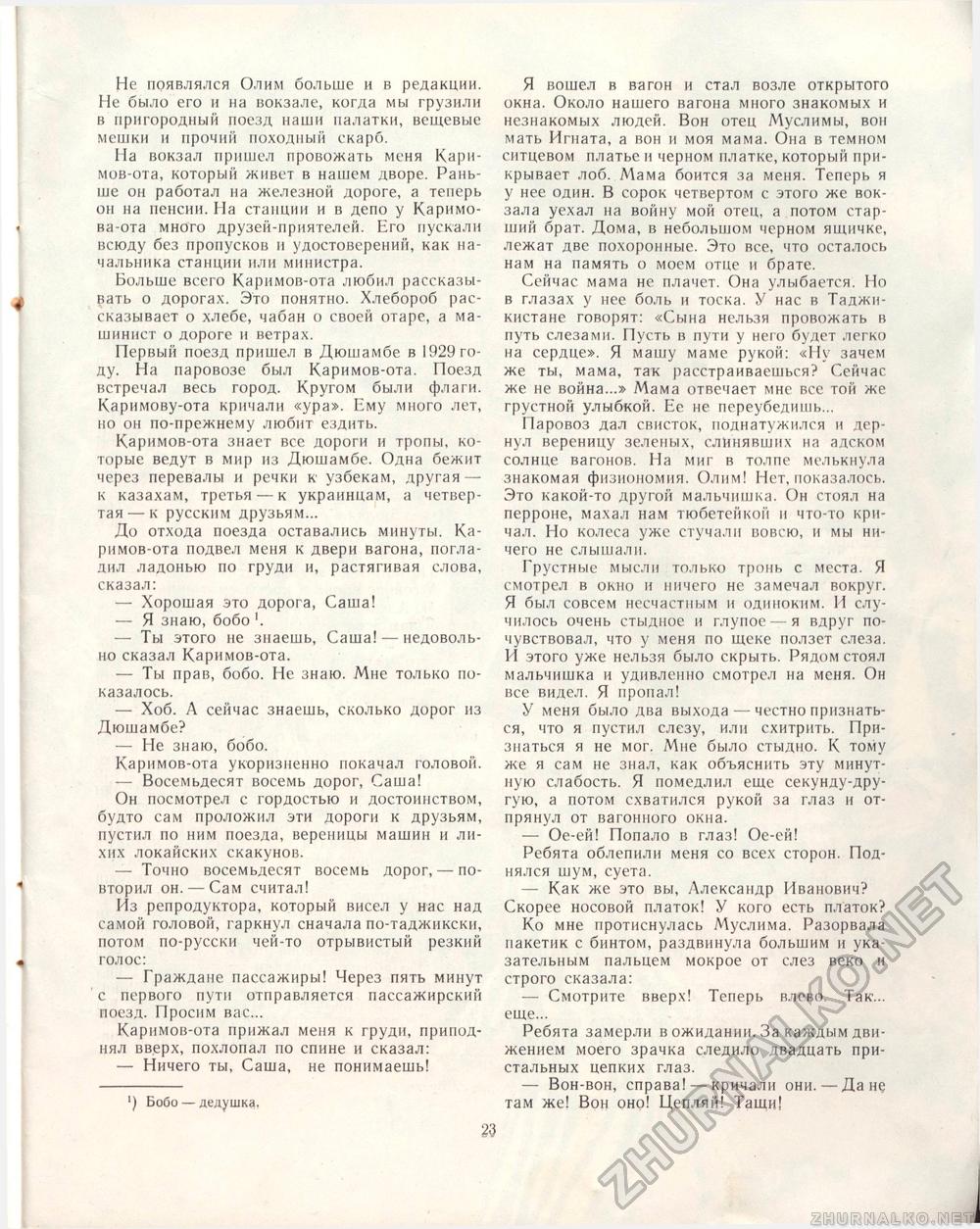
Не появлялся Олим больше и в редакции. Не было его и на вокзале, когда мы грузили в пригородный поезд наши палатки, вещевые мешки и прочий походный скарб. На вокзал пришел провожать меня Кари-мов-ота, который живет в нашем дворе. Раньше он работал на железной дороге, а теперь он на пенсии. На станции и в депо у Каримо-ва-ота много друзей-приятелей. Его пускали всюду без пропусков и удостоверений, как начальника станции или министра. Больше всего Каримов-ота любил рассказывать о дорогах. Это понятно. Хлебороб рассказывает о хлебе, чабан о своей отаре, а машинист о дороге и ветрах. Первый поезд пришел в Дюшамбе в 1929 году. На паровозе был Каримов-ота. Поезд встречал весь город. Кругом были флаги. Каримову-ота кричали «ура». Ему много лет, но он по-прежнему любит ездить. Каримов-ота знает все дороги и тропы, которые ведут в мир из Дюшамбе. Одна бежит через перевалы и речки к узбекам, другая — к казахам, третья — к украинцам, а четвертая— к русским друзьям... До отхода поезда оставались минуты. Каримов-ота подвел меня к двери вагона, погладил ладонью по груди и, растягивая слова, сказал: — Хорошая это дорога, Саша! — Я знаю, бобо — Ты этого не знаешь, Саша! — недовольно сказал Каримов-ота. — Ты прав, бобо. Не знаю. Мне только показалось. — Хоб. А сейчас знаешь, сколько дорог из Дюшамбе? — Не знаю, бобо. Каримов-ота укоризненно покачал головой. — Восемьдесят восемь дорог, Саша! Он посмотрел с гордостью и достоинством, будто сам проложил эти дороги к друзьям, пустил по ним поезда, вереницы машин и лихих локайских скакунов. — Точно восемьдесят восемь дорог, — повторил он. — Сам считал! Из репродуктора, который висел у нас над самой головой, гаркнул сначала по-таджикски, потом по-русски чей-то отрывистый резкий голос: — Граждане пассажиры! Через пять минут с первого пути отправляется пассажирский поезд. Просим вас... Каримов-ота прижал меня к груди, приподнял вверх, похлопал по спине и сказал: — Ничего ты, Саша, не понимаешь! ') Бобо — дедушка. Я вошел в вагон и стал возле открытого окна. Около нашего вагона много знакомых и незнакомых людей. Вон отец Муслимы, вон мать Игната, а вон и моя мама. Она в темном ситцевом платье и черном платке, который прикрывает лоб. Мама боится за меня. Теперь я у нее один. В сорок четвертом с этого же вокзала уехал на войну мой отец, а потом старший брат. Дома, в небольшом черном ящичке, лежат две похоронные. Это все, что осталось нам на память о моем отце и брате. Сейчас мама не плачет. Она улыбается. Но в глазах у нее боль и тоска. У нас в Таджикистане говорят: «Сына нельзя провожать в путь слезами. Пусть в пути у него будет легко на сердце». Я машу маме рукой: «Ну зачем же ты, мама, так расстраиваешься? Сейчас же не война...» Мама отвечает мне все той же грустной улыбкой. Ее не переубедишь... Паровоз дал свисток, поднатужился и дернул вереницу зеленых, слинявших на адском солнце вагонов. На миг в толпе мелькнула знакомая физиономия. Олим! Нет, показалось. Это какой-то другой мальчишка. Он стоял на перроне, махал нам тюбетейкой и что-то кричал. Но колеса уже стучали вовсю, и мы ничего не слышали. Грустные мысли только тронь с места. Я смотрел в окно и ничего не замечал вокруг. Я был совсем несчастным и одиноким. И случилось очень стыдное и глупое — я вдруг почувствовал, что у меня по щеке ползет слеза. И этого уже нельзя было скрыть. Рядом стоял мальчишка и удивленно смотрел на меня. Он все видел. Я пропал! У меня было два выхода — честно признаться, что я пустил слезу, или схитрить. Признаться я не мог. Мне было стыдно. К тому же я сам не знал, как объяснить эту минутную слабость. Я помедлил еще секунду-другую, а потом схватился рукой за глаз и отпрянул от вагонного окна. — Ое-ей! Попало в глаз! Ое-ей! Ребята облепили меня со всех сторон. Поднялся шум, суета. — Как же это вы, Александр Иванович? Скорее носовой платок! У кого есть платок? Ко мне протиснулась Муслима. Разорвала пакетик с бинтом, раздвинула большим и указательным пальцем мокрое от слез веко и строго сказала: — Смотрите вверх! Теперь влево. Так... еще... Ребята замерли в ожидании. За каждым движением моего зрачка следило двадцать пристальных цепких глаз. — Вон-вон, справа! — кричали они. — Дане там же! Вон оно! Цепляй! Таши! 23 |








