Костёр 1967-06, страница 49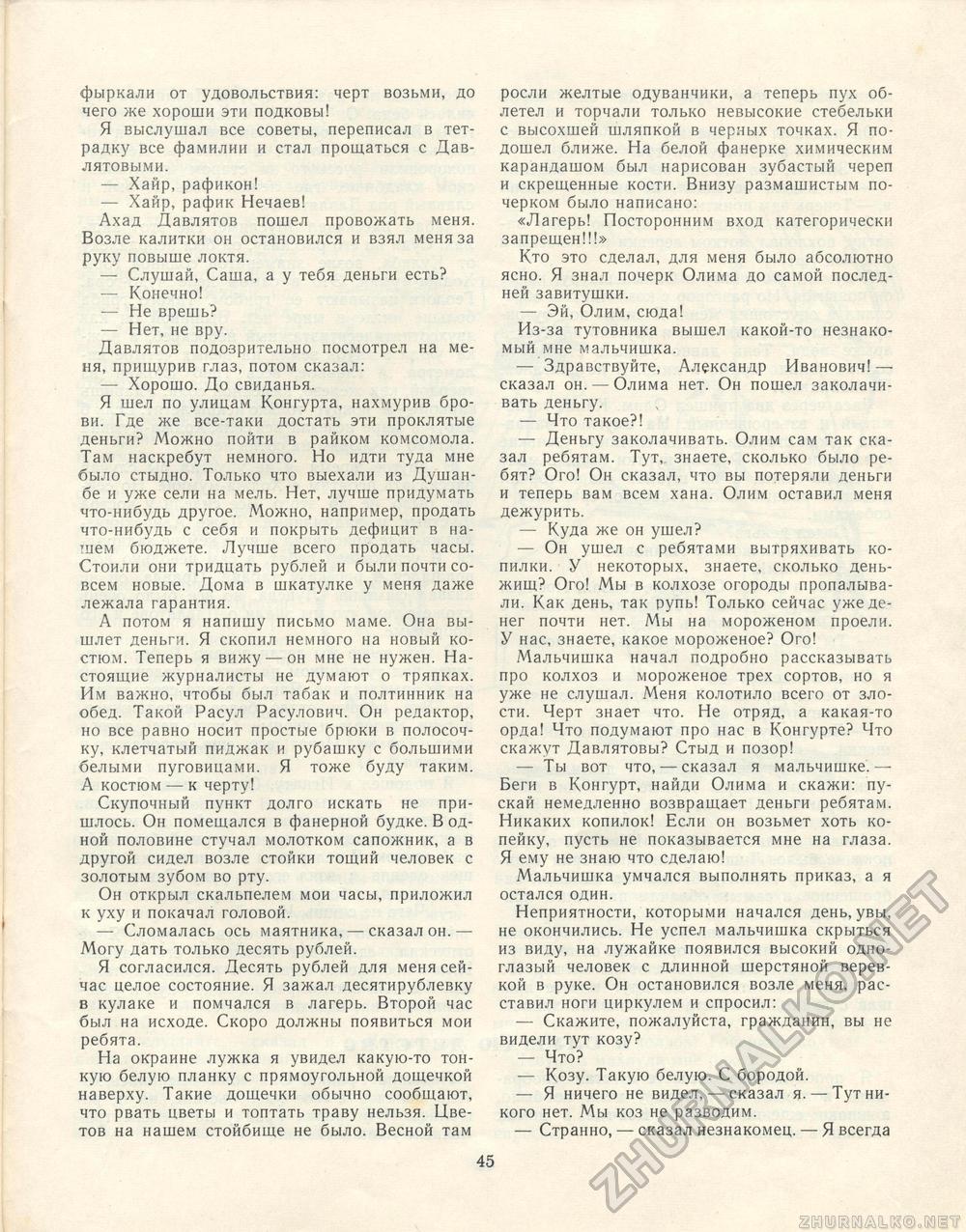
фыркали от удовольствия: черт возьми, до чего же хороши эти подковы! Я выслушал все советы, переписал в тетрадку все фамилии и стал прощаться с Дав-лятовыми. — Хайр, рафикон! — Хайр, рафик Нечаев! Ахад Давлятов пошел провожать меня. Возле калитки он остановился и взял меня за руку повыше локтя. — Слушай, Саша, а у тебя деньги есть? — Конечно! — Не врешь? — Нет, не вру. Давлятов подозрительно посмотрел на меня, прищурив глаз, потом сказал: — Хорошо. До свиданья. Я шел по улицам Конгурта, нахмурив брови. Где же все-таки достать эти проклятые деньги? Можно пойти в райком комсомола. Там наскребут немного. Но идти туда мне было стыдно. Только что выехали из Душанбе и уже сели на мель. Нет, лучше придумать что-нибудь другое. хНожно, например, продать что-нибудь с себя и покрыть дефицит в нашем бюджете. Лучше всего продать часы. Стоили они тридцать рублей и были почти совсем новые. Дома в шкатулке у меня даже лежала гарантия. А потом я напишу письмо маме. Она вышлет деньги. Я скопил немного на новый костюм. Теперь я вижу — он мне не нужен. Настоящие журналисты не думают о тряпках. Им важно, чтобы был табак и полтинник на обед. Такой Расул Расулович. Он редактор, но все равно носит простые брюки в полосочку, клетчатый пиджак и рубашку с большими белыми пуговицами. Я тоже буду таким. А костюм — к черту! Скупочный пункт долго искать не пришлось. Он помещался в фанерной будке. В одной половине стучал молотком сапожник, а в другой сидел возле стойки тощий человек с золотым зубом во рту. Он открыл скальпелем мои часы, приложил к уху и покачал головой. — Сломалась ось маятника, — сказал он.— Могу дать только десять рублей. Я согласился. Десять рублей для меня сейчас целое состояние. Я зажал десятирублевку в кулаке и помчался в лагерь. Второй час был на исходе. Скоро должны появиться мои ребята. На окраине лужка я увидел какую-то тонкую белую планку с прямоугольной дощечкой наверху. Такие дощечки обычно сообщают, что рвать цветы и топтать траву нельзя. Цветов на нашем стойбище не было. Весной там росли желтые одуванчики, а теперь пух облетел и торчали только невысокие стебельки с высохшей шляпкой в черных точках. Я подошел ближе. На белой фанерке химическим карандашом был нарисован зубастый череп и скрещенные кости. Внизу размашистым почерком было написано: «Лагерь! Посторонним вход категорически запрещен!!!» Кто это сделал, для меня было абсолютно ясно. Я знал почерк Олима до самой последней завитушки. — Эй, Олим, сюда! Из-за тутовника вышел какой-то незнакомый мне мальчишка. — Здравствуйте, Александр Иванович! — сказал он. — Олима нет. Он пошел заколачивать деньгу. — Что такое?! — Деньгу заколачивать. Олим сам так сказал ребятам. Тут, знаете, сколько было ребят? Ого! Он сказал, что вы потеряли деньги и теперь вам всем хана. Олим оставил меня дежурить. — Куда же он ушел? — Он ушел с ребятами вытряхивать копилки. У некоторых, знаете, сколько деньжищ? Ого! Мы в колхозе огороды пропалывали. Как день, так рупь! Только сейчас уже денег почти нет. Мы на мороженом проели. У нас, знаете, какое мороженое? Ого! Мальчишка начал подробно рассказывать про колхоз и мороженое трех сортов, но я уже не слушал. Меня колотило всего от злости. Черт знает что. Не отряд, а какая-то орда! Что подумают про нас в Конгурте? Что скажут Давлятовы? Стыд и позор! — Ты вот что, — сказал я мальчишке.— Беги в Конгурт, найди Олима и скажи: пускай немедленно возвращает деньги ребятам. Никаких копилок! Если он возьмет хоть копейку, пусть не показывается мне на глаза. Я ему не знаю что сделаю! Мальчишка умчался выполнять приказ, а я остался один. Неприятности, которыми начался день, увы, не окончились. Не успел мальчишка скрыться из виду, на лужайке появился высокий одноглазый человек с длинной шерстяной веревкой в руке. Он остановился возле меня, расставил ноги циркулем и спросил: — Скажите, пожалуйста, гражданин, вы не видели тут козу? — Что? — Козу. Такую белую. С бородой. — Я ничего не видел, — сказал я. — Тут никого нет. Мы коз не разводим. — Странно, — сказал незнакомец. — Я всегда 45 |








