Вокруг света 1970-04, страница 56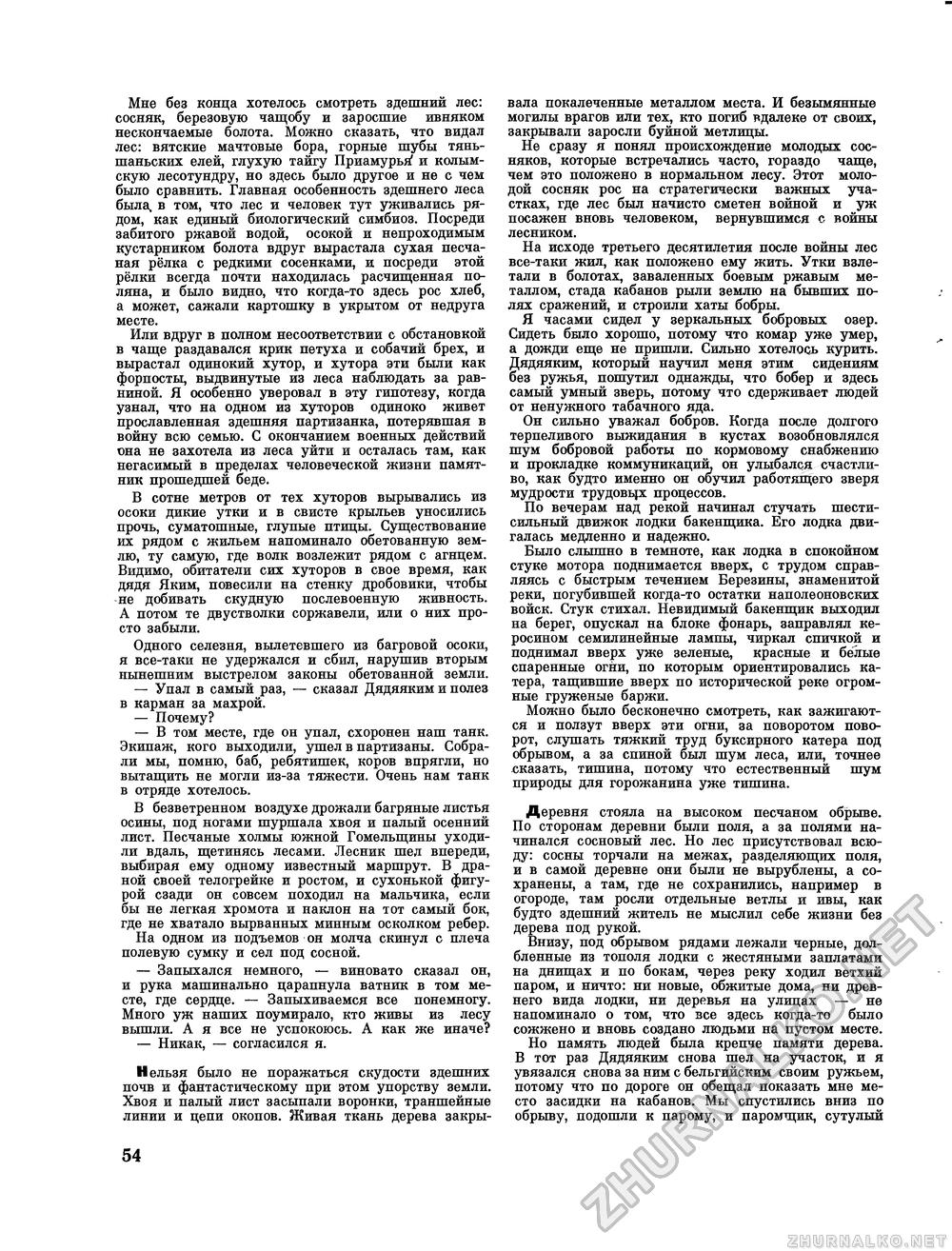
Мне без конца хотелось смотреть здешний лес: сосняк, березовую чащобу и заросшие ивняком нескончаемые болота. Можно сказать, что видал лес: вятские мачтовые бора, горные шубы тянь-шаньских елей, глухую тайгу Приамурья? и колымскую лесотундру, но здесь было другое и не с чем было сравнить. Главная особенность здешнего леса была, в том, что лес и человек тут уживались рядом, как единый биологический симбиоз. Посреди забитого ржавой водой, осокой и непроходимым кустарником болота вдруг вырастала сухая песчаная рёлка с редкими сосенками, и посреди этой рёлки всегда почти находилась расчищенная поляна, и было видно, что когда-то здесь рос хлеб, а может, сажали картошку в укрытом от недруга месте. Или вдруг в полном несоответствии с обстановкой в чаще раздавался крик петуха и собачий брех, и вырастал одинокий хутор, и хутора эти были как форпосты, выдвинутые из леса наблюдать за равниной. Я особенно уверовал в эту гипотезу, когда узнал, что на одном из хуторов одиноко живет прославленная здешняя партизанка, потерявшая в войну всю семью. С окончанием военных действий она не захотела из леса уйти и осталась там, как негасимый в пределах человеческой жизни памятник прошедшей беде. В сотне метров от тех хуторов вырывались из осоки дикие утки и в свисте крыльев уносились прочь, суматошные, глупые птицы. Существование их рядом с жильем напоминало обетованную землю, ту самую, где волк возлежит рядом с агнцем. Видимо, обитатели сих хуторов в свое время, как дядя Яким, повесили на стенку дробовики, чтобы не добивать скудную послевоенную живность. А потом те двустволки соржавели, или о них просто забыли. Одного селезня, вылетевшего из багровой осоки, я все-таки не удержался и сбил, нарушив вторым нынешним выстрелом законы обетованной земли. — Упал в самый раз, — сказал Дядяяким и полез в карман за махрой. — Почему? — В том месте, где он упал, схоронен наш танк. Экипаж, кого выходили, ушел в партизаны. Собрали мы, помню, баб, ребятишек, коров впрягли, но вытащить не могли из-за тяжести. Очень нам танк в отряде хотелось. В безветренном воздухе дрожали багряные листья осины, под ногами шуршала хвоя и палый осенний лист. Песчаные холмы южной Гомелыцины уходили вдаль, щетинясь лесами. Лесник шел впереди, выбирая ему одному известный маршрут. В драной своей телогрейке и ростом, и сухонькой фигурой сзади он совсем походил на мальчика, если бы не легкая хромота и наклон на тот самый бок, где не хватало вырванных минным осколком ребер. На одном из подъемов он молча скинул с плеча полевую сумку и сел под сосной. — Запыхался немного, — виновато сказал он, и рука машинально царапнула ватник в том месте, где сердце. — Запыхиваемся все понемногу. Много уж наших поумирало, кто живы из лесу вышли. А я все не успокоюсь. А как же иначе? — Никак, — согласился я. Нельзя было не поражаться скудости здешних почв и фантастическому при этом упорству земли. Хвоя и палый лист засыпали воронки, траншейные линии и цепи окопов. Живая ткань дерева закры вала покалеченные металлом места. И безымянные могилы врагов или тех, кто погиб вдалеке от своих, закрывали заросли буйной метлицы. Не сразу я понял происхождение молодых сосняков, которые встречались часто, гораздо чаще, чем это положено в нормальном лесу. Этот молодой сосняк рос на стратегически важных участках, где лес был начисто сметен войной и уж посажен вновь человеком, вернувшимся с войны лесником. На исходе третьего десятилетия после войны лес все-таки жил, как положено ему жить. Утки взлетали в болотах, заваленных боевым ржавым металлом, стада кабанов рыли землю на бывших полях сражений, и строили хаты бобры. Я часами сидел у зеркальных бобровых озер. Сидеть было хорошо, потому что комар уже умер, а дожди еще не пришли. Сильно хотелось курить. Дядяяким, который научил меня этим сидениям без ружья, пошутил однажды, что бобер и здесь самый умный зверь, потому что сдерживает людей от ненужного табачного яда. Он сильно уважал бобров. Когда после долгого терпеливого выжидания в кустах возобновлялся шум бобровой работы по кормовому снабжению и прокладке коммуникаций, он улыбался счастливо, как будто именно он обучил работящего зверя мудрости трудовцх процессов. По вечерам над рекой начинал стучать шестисильный движок лодки бакенщика. Его лодка двигалась медленно и надежно. Было слышно в темноте, как лодка в спокойном стуке мотора поднимается вверх, с трудом справляясь с быстрым течением Березины, знаменитой реки, погубившей когда-то остатки наполеоновских войск. Стук стихал. Невидимый бакенщик выходил на берег, опускал на блоке фонарь, заправлял керосином семилинейные лампы, чиркал спичкой и поднимал вверх уже зеленые, красные и белые спаренные огни, по которым ориентировались катера, тащившие вверх по исторической реке огромные груженые баржи. Можно было бесконечно смотреть, как зажигаются и ползут вверх эти огни, за поворотом поворот, слушать тяжкий труд буксирного катера под обрывом, а за спиной был шум леса, или, точнее сказать, тишина, потому что естественный шум природы для горожанина уже тишина. Деревня стояла на высоком песчаном обрыве. По сторонам деревни были поля, а за полями начинался сосновый лес. Но лес присутствовал всюду: сосны торчали на межах, разделяющих поля, и в самой деревне они были не вырублены, а сохранены, а там, где не сохранились, например в огороде, там росли отдельные ветлы и ивы, как будто здешний житель не мыслил себе жизни без дерева под рукой. Внизу, под обрывом рядами лежали черные, долбленные из тополя лодки с жестяными заплатами на днищах и по бокам, через реку ходил ветхий паром, и ничто: ни новые, обжитые дома, ни древнего вида лодки, ни деревья на улицах — не напоминало о том, что все здесь когда-то было сожжено и вновь создано людьми на пустом месте. Но память людей была крепче памяти дерева. В тот раз Дядяяким снова шел на участок, и я увязался снова за ним с бельгийским своим ружьем, потому что по дороге он обещал показать мне место засидки на кабанов. Мы спустились вниз по обрыву, подошли к парому, и паромщик, сутулый 54 |








