Вокруг света 1970-06, страница 9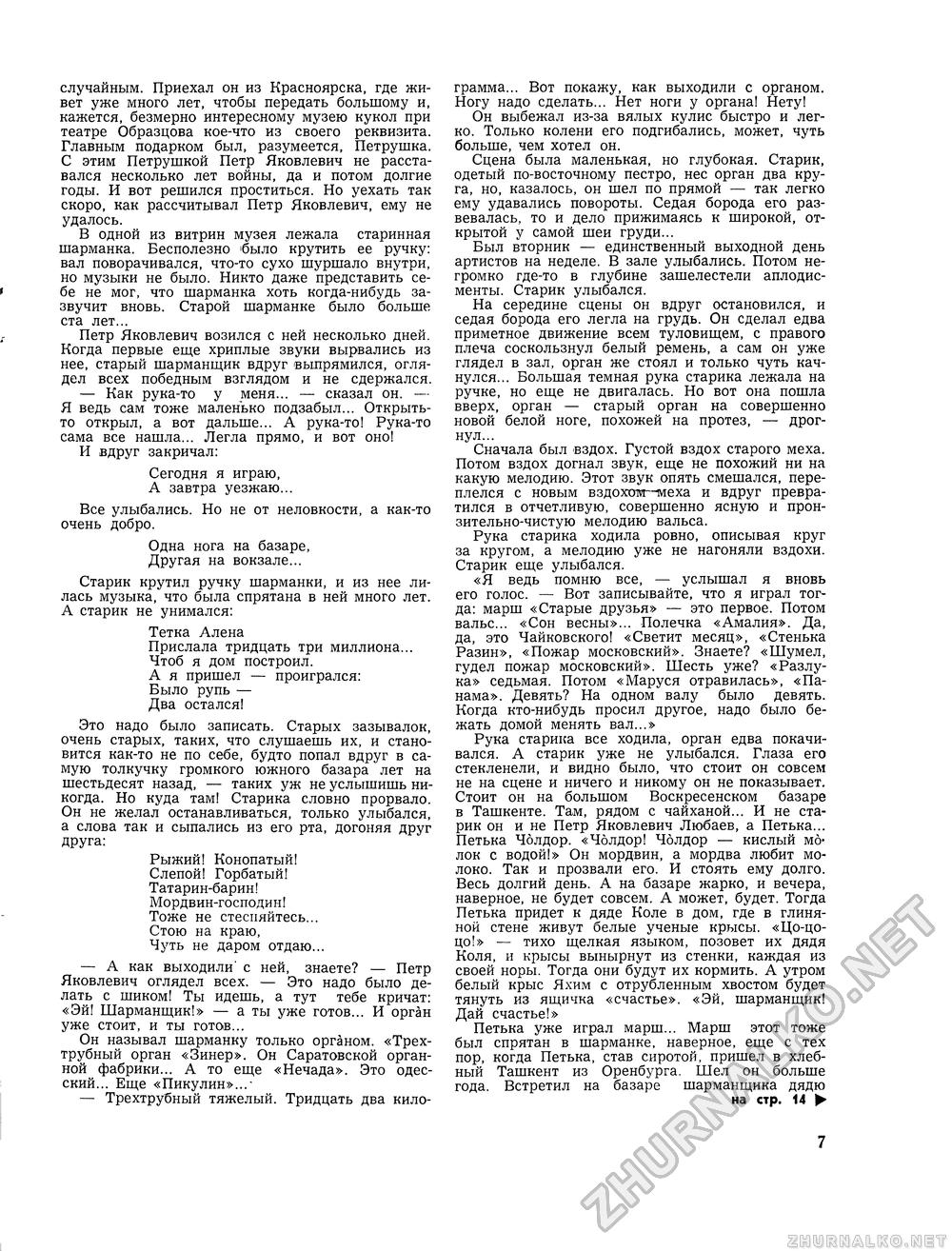
случайным. Приехал он из Красноярска, где живет уже много лет, чтобы передать большому и, кажется, безмерно интересному музею кукол при театре Образцова кое-что из своего реквизита. Главным подарком был, разумеется, Петрушка. С этим Петрушкой Петр Яковлевич не расставался несколько лет войны, да и потом долгие годы. И вот решился проститься. Но уехать так скоро, как рассчитывал Петр Яковлевич, ему не удалось. В одной из витрин музея лежала старинная шарманка. Бесполезно 'было крутить ее ручку: вал поворачивался, что-то сухо шуршало внутри, но музыки не было. Никто даже представить се-f бе не мог, что шарманка хоть когда-нибудь за звучит вновь. Старой шарманке было больше ста лет... Петр Яковлевич возился с ней несколько дней. Когда первые еще хриплые звуки вырвались из нее, старый шарманщик вдруг выпрямился, оглядел всех победным взглядом и не сдержался. — Как рука-то у меня... — сказал он. — Я ведь сам тоже маленько подзабыл... Открыть-то открыл, а вот дальше... А рука-то! Рука-то сама все нашла... Легла прямо, и вот оно! И вдруг закричал: Сегодня я играю, А завтра уезжаю... Все улыбались. Но не от неловкости, а как-то очень добро. Одна нога на базаре, Другая на вокзале... Старик крутил ручку шарманки, и из нее лилась музыка, что была спрятана в ней много лет. А старик не унимался: Тетка Алена Прислала тридцать три миллиона... Чтоб я дом построил. А я пришел — проигрался: Было рупь — Два остался! Это надо было записать. Старых зазывалок, очень старых, таких, что слушаешь их, и становится как-то не по себе, будто попал вдруг в самую толкучку громкого южного базара лет на шестьдесят назад, — таких уж не услышишь никогда. Но куда там! Старика словно прорвало. Он не желал останавливаться, только улыбался, а слова так и сыпались из его рта, догоняя друг друга: Рыжий! Конопатый! Слепой! Горбатый! Татарин-барин! Мордвин-господин! Тоже не стесняйтесь... Стою на краю, Чуть не даром отдаю... — А как выходили" с ней, знаете? — Петр Яковлевич оглядел всех. — Это надо было делать с шиком! Ты идешь, а тут тебе кричат: «Эй! Шарманщик!» — а ты уже готов... И орган уже стоит, и ты готов... Он называл шарманку только органом. «Трехтрубный орган «Зинер». Он Саратовской органной фабрики... А то еще «Нечада». Это одесский... Еще «Пикулин»...- — Трехтрубный тяжелый. Тридцать два кило грамма... Вот покажу, как выходили с органом. Ногу надо сделать... Нет ноги у органа! Нету! Он выбежал из-за вялых кулис быстро и легко. Только колени его подгибались, может, чуть больше, чем хотел он. Сцена была маленькая, но глубокая. Старик, одетый по-восточному пестро, нес орган два круга, но, казалось, он шел по прямой — так легко ему удавались повороты. Седая борода его развевалась, то и дело прижимаясь к широкой, открытой у самой шеи груди... Был вторник — единственный выходной день артистов на неделе. В зале улыбались. Потом негромко где-то в глубине зашелестели аплодисменты. Старик улыбался. На середине сцены он вдруг остановился, и седая борода его легла на грудь. Он сделал едва приметное движение всем туловищем, с правого плеча соскользнул белый ремень, а сам он уже глядел в зал, орган же стоял и только чуть качнулся... Большая темная рука старика лежала на ручке, но еще не двигалась. Но вот она пошла вверх, орган — старый орган на совершенно новой белой ноге, похожей на протез, — Дрогнул... Сначала был вздох. Густой вздох старого меха. Потом вздох догнал звук, еще не похожий ни на какую мелодию. Этот звук опять смешался, переплелся с новым вздохож—меха и вдруг превратился в отчетливую, совершенно ясную и пронзительно-чистую мелодию вальса. Рука старика ходила ровно, описывая круг за кругом, а мелодию уже не нагоняли вздохи. Старик еще улыбался. «Я ведь помню все, — услышал я вновь его голос. — Вот записывайте, что я играл тогда: марш «Старые друзья» — это первое. Потом вальс... «Сон весны»... Полечка «Амалия». Да, да, это Чайковского! «Светит месяц», «Стенька Разин», «Пожар московский». Знаете? «Шумел, гудел пожар московский». Шесть уже? «Разлука» седьмая. Потом «Маруся отравилась», «Панама». Девять? На одном валу было девять. Когда кто-нибудь просил другое, надо было бежать домой менять вал...» Рука старика все ходила, орган едва покачивался. А старик уже не улыбался. Глаза его стекленели, и видно было, что стоит он совсем не на сцене и ничего и никому он не показывает. Стоит он на большом Воскресенском базаре в Ташкенте. Там, рядом с чайханой... И не старик он и не Петр Яковлевич Любаев, а Петька... Петька Чолдор. «Чолдор! Чолдор — кислый мо* лок с водой!» Он мордвин, а мордва любит молоко. Так и прозвали его. И стоять ему долго. Весь долгий день. А на базаре жарко, и вечера, наверное, не будет совсем. А может, будет. Тогда Петька придет к дяде Коле в дом, где в глиняной стене живут белые ученые крысы. «Цо-цо-цо!» — тихо щелкая языком, позовет их дядя Коля, и крысы вынырнут из стенки, каждая из своей норы. Тогда они будут их кормить. А утром белый крыс Яхим с отрубленным хвостом будет тянуть из ящичка «счастье». «Эй, шарманщик! Дай счастье!» Петька уже играл марш... Марш этот тоже был спрятан в шарманке, наверное, еще с тех пор, когда Петька, став сиротой, пришел в хлебный Ташкент из Оренбурга. Шел он больше года. Встретил на базаре шарманщика дядю на стр. 14 ► 7 |








