Костёр 1967-04, страница 20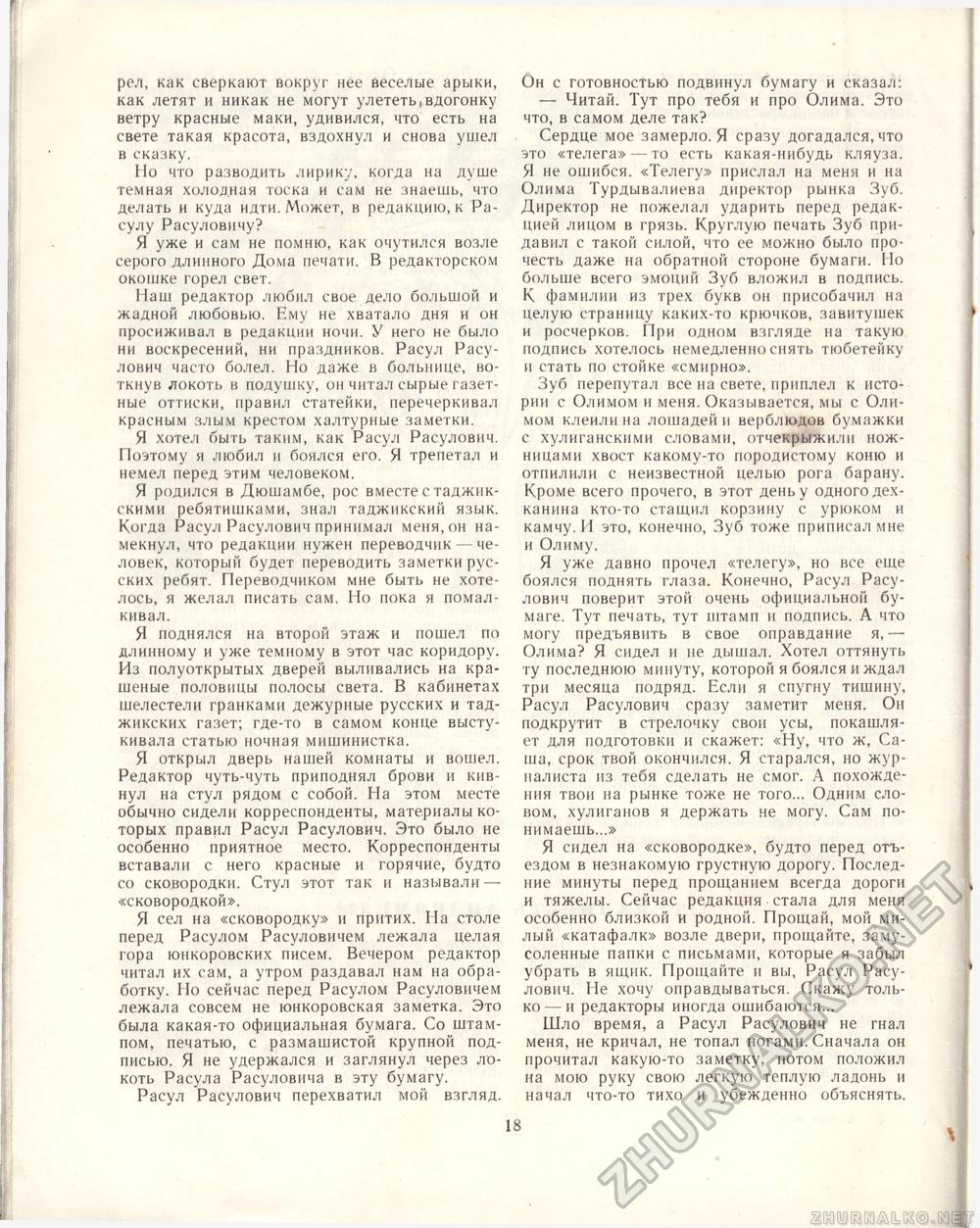
рел, как сверкают вокруг нее веселые арыки, как летят и никак не могут улететь,вдогонку ветру красные маки, удивился, что есть на свете такая красота, вздохнул и снова ушел в сказку. Но что разводить лирику, когда на душе темная холодная тоска и сам не знаешь, что делать и куда идти. Может, в редакцию, к Ра-сулу Расуловичу? Я уже и сам не помню, как очутился возле серого длинного Дома печати. В редакторском окошке горел свет. Наш редактор любил свое дело большой и жадной любовью. Ему не хватало дня и он просиживал в редакции ночи. У него не было ни воскресений, ни праздников. Расул Расулович часто болел. Но даже в больнице, воткнув локоть в подушку, он читал сырые газетные оттиски, правил статейки, перечеркивал красным злым крестом халтурные заметки. Я хотел быть таким, как Расул Расулович. Поэтому я любил и боялся его. Я трепетал и немел перед этим человеком. Я родился в Дюшамбе, рос вместе с таджикскими ребятишками, знал таджикский язык. Когда Расул Расулович принимал меня, он намекнул, что редакции нужен переводчик — человек, который будет переводить заметки русских ребят. Переводчиком мне быть не хотелось, я желал писать сам. Но пока я помалкивал. Я поднялся на второй этаж и пошел по длинному и уже темному в этот час коридору. Из полуоткрытых дверей выливались на крашеные половицы полосы света. В кабинетах шелестели гранками дежурные русских и таджикских газет; где-то в самом конце выстукивала статью ночная мншинистка. Я открыл дверь нашей комнаты и вошел. Редактор чуть-чуть приподнял брови и кивнул на стул рядом с собой. На этом месте обычно сидели корреспонденты, материалы которых правил Расул Расулович. Это было не особенно приятное место. Корреспонденты вставали с него красные и горячие, будто со сковородки. Стул этот так и называли — «сковородкой». Я сел на «сковородку» и притих. На столе перед Расулом Расуловичем лежала целая гора юнкоровских писем. Вечером редактор читал их сам, а утром раздавал нам на обработку. Но сейчас перед Расулом Расуловичем лежала совсем не юнкоровская заметка. Это была какая-то официальная бумага. Со штампом, печатью, с размашистой крупной подписью. Я не удержался и заглянул через локоть Расула Расуловича в эту бумагу. Расул Расулович перехватил мой взгляд. Он с готовностью подвинул бумагу и сказал: — Читай. Тут про тебя и про Олима. Это что, в самом деле так? Сердце мое замерло. Я сразу догадался, что это «телега» — то есть какая-нибудь кляуза. Я не ошибся. «Телегу» прислал на меня и на Олима Турдывалиева директор рынка Зуб. Директор не пожелал ударить перед редакцией лицом в грязь. Круглую печать Зуб придавил с такой силой, что ее можно было прочесть даже на обратной стороне бумаги. Но больше всего эмоций Зуб вложил в подпись. К фамилии из трех букв он присобачил на целую страницу каких-то крючков, завитушек и росчерков. При одном взгляде на такую подпись хотелось немедленно снять тюбетейку и стать по стойке «смирно». Зуб перепутал все на свете, приплел к истории с Олимом и меня. Оказывается, мы с Олимом клеили на лошадей и верблюдов бумажки с хулиганскими словами, отчекрыжили ножницами хвост какому-то породистому коню и отпилили с неизвестной целыо рога барану. Кроме всего прочего, в этот день у одного дехканина кто-то стащил корзину с урюком и камчу. И это, конечно, Зуб тоже приписал мне и Олиму. Я уже давно прочел «телегу», но все еще боялся поднять глаза. Конечно, Расул Расулович поверит этой очень официальной бумаге. Тут печать, тут штамп и подпись. А что могу предъявить в свое оправдание я,— Олима? Я сидел и не дышал. Хотел оттянуть ту последнюю минуту, которой я боялся и ждал три месяца подряд. Если я спугну тишину, Расул Расулович сразу заметит меня. Он подкрутит в стрелочку свои усы, покашляет для подготовки и скажет: «Ну, что ж, Саша, срок твой окончился. Я старался, но журналиста из тебя сделать не смог. А похождения твои на рынке тоже не того... Одним словом, хулиганов я держать не могу. Сам понимаешь...» Я сидел на «сковородке», будто перед отъездом в незнакомую грустную дорогу. Последние минуты перед прощанием всегда дороги и тяжелы. Сейчас редакция стала для меня особенно близкой и родной. Прощай, мой милый «катафалк» возле двери, прощайте, замусоленные папки с письмами, которые я забыл убрать в ящик. Прощайте и вы, Расул Расулович. Не хочу оправдываться. Скажу только— и редакторы иногда ошибаются... Шло время, а Расул Расулович не гнал меня, не кричал, не топал ногами. Сначала он прочитал какую-то заметку, потом положил на мою руку свою легкую теплую ладонь и начал что-то тихо и убежденно объяснять. 18 |








