Вокруг света 1972-05, страница 38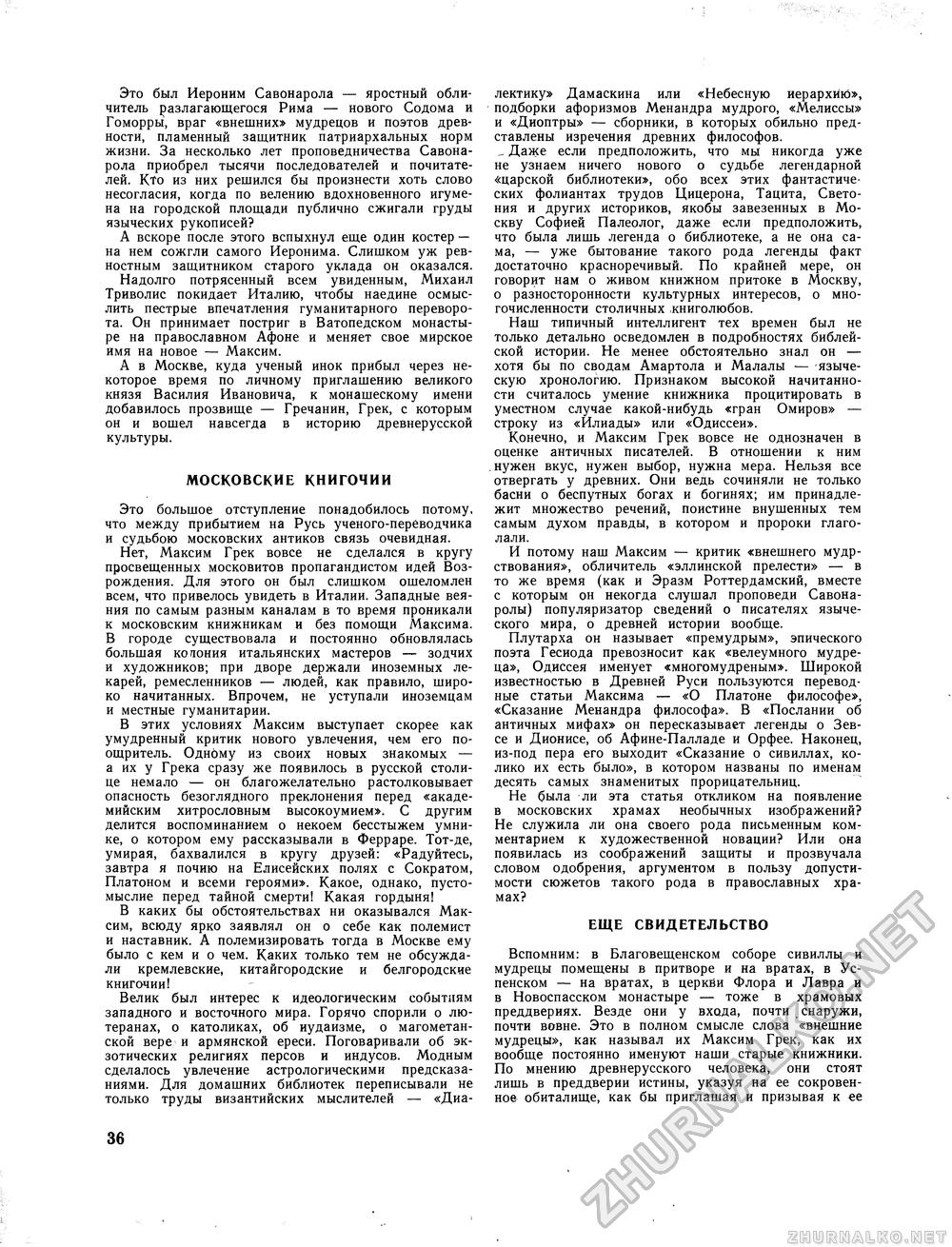
Это был Иероним Савонарола — яростный обличитель разлагающегося Рима — нового Содома и Гоморры, враг «внешних» мудрецов и поэтов древности, пламенный защитник патриархальных норм жизни. За несколько лет проповедничества Савонарола приобрел тысячи последователей и почитателей. Кто из них решился бы произнести хоть слово несогласия, когда по велению вдохновенного игумена на городской площади публично сжигали груды языческих рукописей? А вскоре после этого вспыхнул еще один костер — на нем сожгли самого Иеронима. Слишком уж ревностным защитником старого уклада он оказался. Надолго потрясенный всем увиденным, Михаил Триволис покидает Италию, чтобы наедине осмыслить пестрые впечатления гуманитарного переворота. Он принимает постриг в Ватопедском монастыре на православном Афоне и меняет свое мирское имя на новое — Максим. А в Москве, куда ученый инок прибыл через некоторое время по личному приглашению великого князя Василия Ивановича, к монашескому имени добавилось прозвище — Гречанин, Грек, с которым он и вошел навсегда в историю древнерусской культуры. московские книгочии Это большое отступление понадобилось потому, что между прибытием на Русь ученого-переводчика и судьбою московских антиков связь очевидная. Нет, Максим Грек вовсе не сделался в кругу просвещенных московитов пропагандистом идей Возрождения. Для этого он был слишком ошеломлен всем, что привелось увидеть в Италии. Западные веяния по самым разным каналам в то время проникали к московским книжникам и без помощи Максима. В городе существовала и постоянно обновлялась большая ко/юния итальянских мастеров — зодчих и художников; при дворе держали иноземных лекарей, ремесленников — людей, как правило, широко начитанных. Впрочем, не уступали иноземцам и местные гуманитарии. В этих условиях Максим выступает скорее как умудренный критик нового увлечения, чем его по-ощритель. Одндму из своих новых знакомых — а их у Грека сразу же появилось в русской столице немало — он благожелательно растолковывает опасность безоглядного преклонения перед «акаде-мийским хитрословным высокоумием». С другим делится воспоминанием о некоем бесстыжем умнике, о котором ему рассказывали в Ферраре. Тот-де, умирая, бахвалился в кругу друзей: «Радуйтесь, завтра я почию на Елисейских полях с Сократом, Платоном и всеми героями». Какое, однако, пусто-мыслие перед тайной смерти! Какая гордыня! В каких бы обстоятельствах ни оказывался Максим, всюду ярко заявлял он о себе как полемист и наставник. А полемизировать тогда в Москве ему было с кем и о чем. Каких только тем не обсуждали кремлевские, китайгородские и белгородские книгочии! Велик был интерес к идеологическим событиям западного и восточного мира. Горячо спорили о лютеранах, о католиках, об иудаизме, о магометанской вере и армянской ереси. Поговаривали об экзотических религиях персов и индусов. Модным сделалось увлечение астрологическими предсказаниями. Для домашних библиотек переписывали не только труды византийских мыслителей — «Диа лектику» Дамаскина или «Небесную иерархию», подборки афоризмов Менандра мудрого, «Мелиссы» и «Диоптры» — сборники, в которых обильно представлены изречения древних философов. _ Даже если предположить, что мы никогда уже не узнаем ничего нового о судьбе легендарной «царской библиотеки», обо всех этих фантастических фолиантах трудов Цицерона, Тацита, Свето-ния и других историков, якобы завезенных в Москву Софией Палеолог, даже если предположить, что была лишь легенда о библиотеке, а не она сама, — уже бытование такого рода легенды факт достаточно красноречивый. По крайней мере, он говорит нам о живом книжном притоке в Москву, о разносторонности культурных интересов, о многочисленности столичных книголюбов. Наш типичный интеллигент тех времен был не только детально осведомлен в подробностях библейской истории. Не менее обстоятельно знал он — хотя бы по сводам Амартола и Малалы — языческую хронологию. Признаком высокой начитанности считалось умение книжника процитировать в уместном случае какой-нибудь «гран Омиров» — строку из «Илиады» или «Одиссеи». Конечно, и Максим Грек вовсе не однозначен в оценке античных писателей. В отношении к ним нужен вкус, нужен выбор, нужна мера. Нельзя все отвергать у древних. Они ведь сочиняли не только басни о беспутных богах и богинях; им принадлежит множество речений, поистине внушенных тем самым духом правды, в котором и пророки глаголали. И потому наш Максим — критик «внешнего мудрствования», обличитель «эллинской прелести» — в то же время (как и Эразм Роттердамский, вместе с которым он некогда слушал проповеди Савонаролы) популяризатор сведений о писателях языческого мира, о древней истории вообще. Плутарха он называет «премудрым», эпического поэта Гесиода превозносит как «велеумного мудреца», Одиссея именует «многомудреным». Широкой известностью в Древней Руси пользуются переводные статьи Максима — «О Платоне философе», «Сказание Менандра философа». В «Послании об античных мифах» он пересказывает легенды о Зевсе и Дионисе, об Афине-Палладе и Орфее. Наконец, из-под пера его выходит «Сказание о сивиллах, ко-лико их есть было», в котором названы по именам десять самых знаменитых прорицательниц. Не была ли эта статья откликом на появление в московских храмах необычных изображений? Не служила ли она своего рода письменным комментарием к художественной новации? Или она появилась из соображений защиты и прозвучала словом одобрения, аргументом в пользу допустимости сюжетов такого рода в православных храмах? еще свидетельство Вспомним: в Благовещенском соборе сивиллы и мудрецы помещены в притворе и на вратах, в Успенском — на вратах, в церкви Флора и Лавра и в Новоспасском монастыре — тоже в храмовых преддвериях. Везде они у входа, почти снаружи, почти вовне. Это в полном смысле слова «внешние мудрецы», как называл их Максим Грек, как их вообще постоянно именуют наши старые книжники. По мнению древнерусского человека, они стоят лишь в преддверии истины, указуя на ее сокровенное обиталище, как бы приглашая и призывая к ее 36 |








