Вокруг света 1978-10, страница 10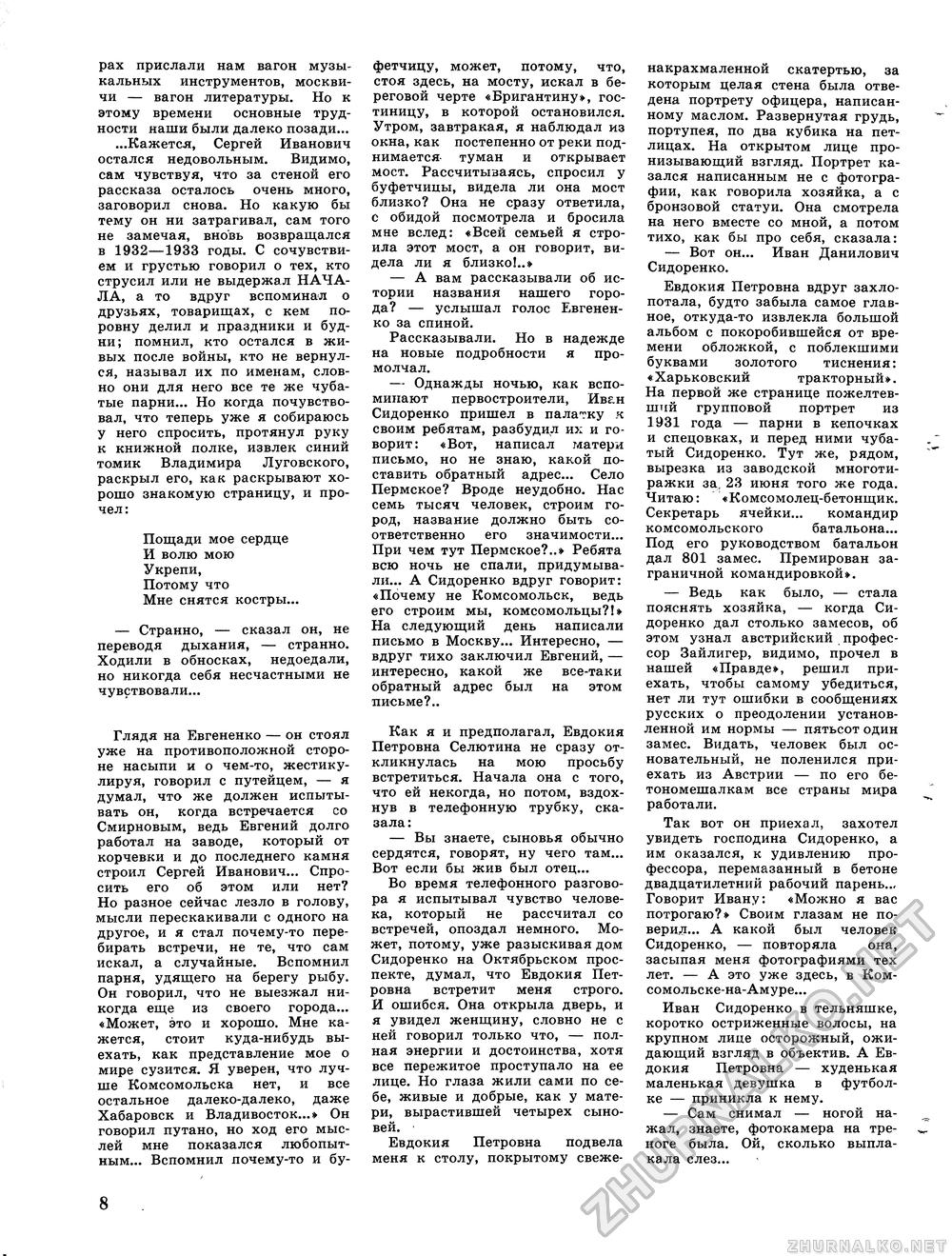
pax прислали нам вагон музыкальных инструментов, москвичи — вагон литературы. Но к этому времени основные трудности наши были далеко позади... ...Кажется, Сергей Иванович остался недовольным. Видимо, сам чувствуя, что за стеной его рассказа осталось очень много, заговорил снова. Но какую бы тему он ни затрагивал, сам того не замечая, вновь возвращался в 1932—1933 годы. С сочувствием и грустью говорил о тех, кто струсил или не выдержал НАЧАЛА, а то вдруг вспоминал о друзьях, товарищах, с кем поровну делил и праздники и будни; помнил, кто остался в живых после войны, кто не вернулся, называл их по именам, словно они для него все те же чубатые парни... Но когда почувствовал, что теперь уже я собираюсь у него спросить, протянул руку к книжной полке, извлек синий томик Владимира Луговского, раскрыл его, как раскрывают хорошо знакомую страницу, и прочел: Пощади мое сердце И волю мою Укрепи, Потому что Мне снятся костры... — Странно, — сказал он, не переводя дыхания, — странно. Ходили в обносках, недоедали, но никогда себя несчастными не чувствовали... Глядя на Евгененко — он стоял уже на противоположной стороне насыпи и о чем-то, жестикулируя, говорил с путейцем, — я думал, что же должен испытывать он, когда встречается со Смирновым, ведь Евгений долго работал на заводе, который от корчевки и до последнего камня строил Сергей Иванович... Спросить его об этом или нет? Но разное сейчас лезло в голову, мысли перескакивали с одного на другое, и я стал почему-то перебирать встречи, не те, что сам искал, а случайные. Вспомнил парня, удящего на берегу рыбу. Он говорил, что не выезжал никогда еще из своего города... «Может, это и хорошо. Мне кажется, стоит куда-нибудь выехать, как представление мое о мире сузится. Я уверен, что лучше Комсомольска нет, и все остальное далеко-далеко, даже Хабаровск и Владивосток...» Он говорил путано, но ход его мыслей мне показался любопытным... Вспомнил почему-то и бу фетчицу, может, потому, что, стоя здесь, на мосту, искал в береговой черте «Бригантину», гостиницу, в которой остановился. Утром, завтракая, я наблюдал из окна, как постепенно от реки поднимается туман и открывает мост. Рассчитываясь, спросил у буфетчицы, видела ли она мост близко? Она не сразу ответила, с обидой посмотрела и бросила мне вслед: «Всей семьей я строила этот мост, а он говорит, видела ли я близко!..» — А вам рассказывали об истории названия нашего города? — услышал голос Евгененко за спиной. Рассказывали. Но в надежде на новые подробности я промолчал. — Однажды ночью, как вспоминают первостроители, Иван Сидоренко пришел в палатку к своим ребятам, разбудил их и говорит: «Вот, написал матери письмо, но не знаю, какой поставить обратный адрес... Село Пермское? Вроде неудобно. Нас семь тысяч человек, строим город, название должно быть соответственно его значимости... При чем тут Пермское?..» Ребята всю ночь не спали, придумывали... А Сидоренко вдруг говорит: «Почему не Комсомольск, ведь его строим мы, комсомольцы?!» На следующий день написали письмо в Москву... Интересно, — вдруг тихо заключил Евгений, — интересно, какой же все-таки обратный адрес был на этом письме?.. Как я и предполагал, Евдокия Петровна Селютина не сразу откликнулась на мою просьбу встретиться. Начала она с того, что ей некогда, но потом, вздохнув в телефонную трубку, сказала: — Вы знаете, сыновья обычно сердятся, говорят, ну чего там... Вот если бы жив был отец... Во время телефонного разговора я испытывал чувство человека, который не рассчитал со встречей, опоздал немного. Может, потому, уже разыскивая дом Сидоренко на Октябрьском проспекте, думал, что Евдокия Петровна встретит меня строго. И ошибся. Она открыла дверь, и я увидел женщину, словно не с ней говорил только что, — полная энергии и достоинства, хотя все пережитое проступало на ее лице. Но глаза жили сами по себе, живые и добрые, как у матери, вырастившей четырех сыновей. Евдокия Петровна подвела меня к столу, покрытому свеже- накрахмаленной скатертью, за которым целая стена была отведена портрету офицера, написанному маслом. Развернутая грудь, портупея, по два кубика на петлицах. На открытом лице пронизывающий взгляд. Портрет казался написанным не с фотографии, как говорила хозяйка, а с бронзовой статуи. Она смотрела на него вместе со мной, а потом тихо, как бы про себя, сказала: — Вот он... Иван Данилович Сидоренко. Евдокия Петровна вдруг захлопотала, будто забыла самое главное, откуда-то извлекла большой альбом с покоробившейся от времени обложкой, с поблекшими буквами золотого тиснения: «Харьковский тракторный». На первой же странице пожелтевший групповой портрет из 1931 года — парни в кепочках и спецовках, и перед ними чубатый Сидоренко. Тут же, рядом, вырезка из заводской многотиражки за, 23 июня того же года. Читаю: «Комсомолец-бетонщик. Секретарь ячейки... командир комсомольского батальона... Под его руководством батальон дал 801 замес. Премирован заграничной командировкой». — Ведь как было, — стала пояснять хозяйка, — когда Сидоренко дал столько замесов, об этом узнал австрийский профессор Зайлигер, видимо, прочел в нашей «Правде», решил приехать, чтобы самому убедиться, нет ли тут ошибки в сообщениях русских о преодолении установленной им нормы — пятьсот один замес. Видать, человек был основательный, не поленился приехать из Австрии — по его бетономешалкам все страны мцра работали. Так вот он приехал, захотел увидеть господина Сидоренко, а им оказался, к удивлению профессора, перемазанный в бетоне двадцатилетний рабочий парень... Говорит Ивану: «Можно я вас потрогаю?» Своим глазам не поверил... А какой был человек Сидоренко, — повторяла она, засыпая меня фотографиями тех лет. — А это уже здесь, в Комсомольске-на-Амуре... Иван Сидоренко в тельняшке, коротко остриженные волосы, на крупном лице осторожный, ожидающий взгляд в объектив. А Евдокия Петровна — худенькая маленькая девушка в футболке — приникла к нему. — Сам снимал — ногой нажал, знаете, фотокамера на треноге была. Ой, сколько выплакала слез... 8 |








