Костёр 1967-08, страница 39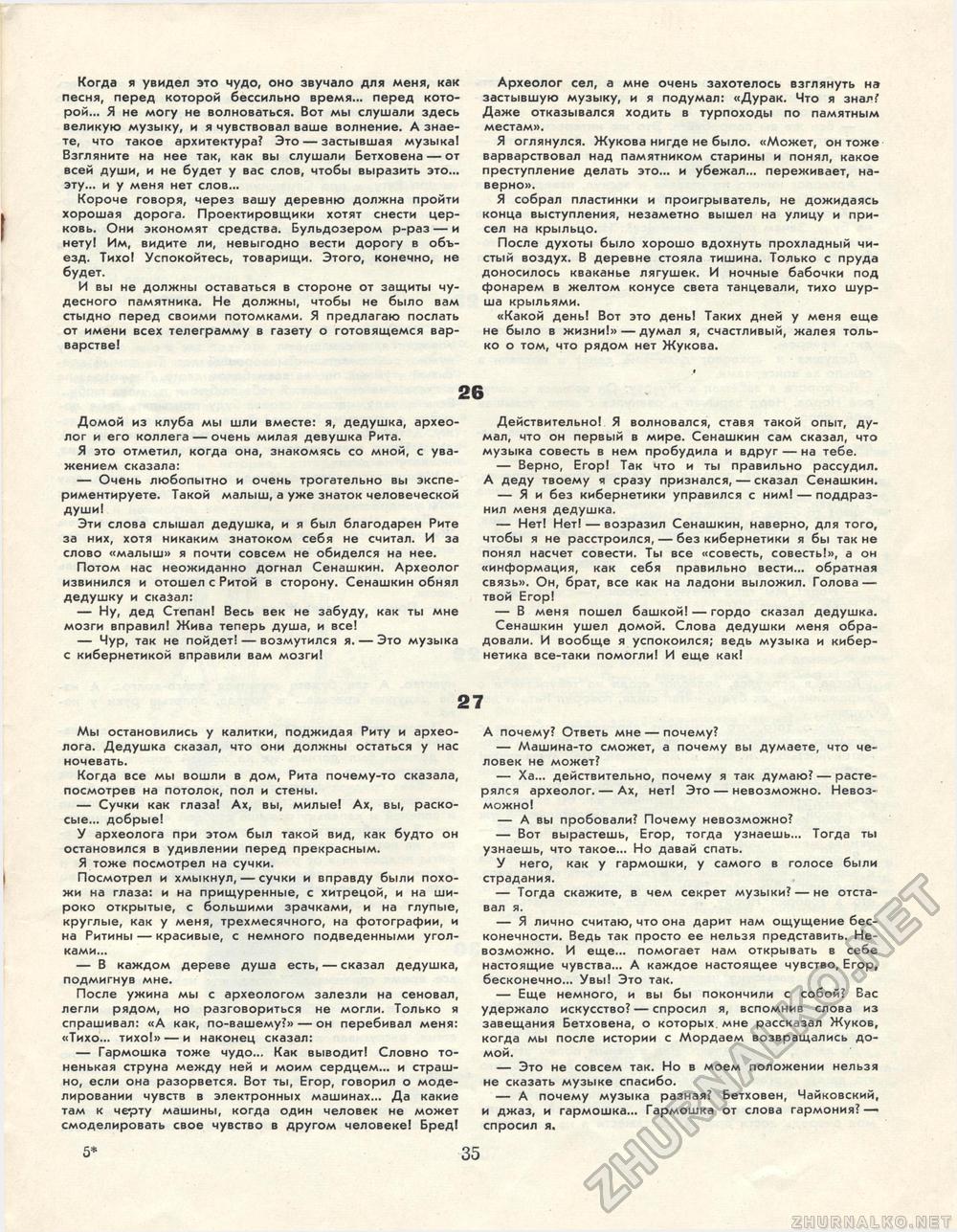
Когда я увидел это чудо, оно звучало для меня, как песня, перед которой бессильно время... перед которой... Я не могу не волноваться. Вот мы слушали здесь великую музыку, и я чувствовал ваше волнение. А знаете, что такое архитектура? Это — застывшая музыка! Взгляните на нее так, как вы слушали Бетховена — от всей души, и не будет у вас слов, чтобы выразить это... эту... и у меня нет слов... Короче говоря, через вашу деревню должна пройти хорошая дорога. Проектировщики хотят снести церковь. Они экономят средства. Бульдозером р-раз — и нету! Им, видите ли, невыгодно вести дорогу в объезд. Тихо! Успокойтесь, товарищи. Этого, конечно, не будет. И вы не должны оставаться в стороне от защиты чудесного памятника. Не должны, чтобы не было вам стыдно перед своими потомками. Я предлагаю послать от имени всех телеграмму в газету о готовящемся варварстве! Археолог сел, а мне очень захотелось взглянуть на застывшую музыку, и я подумал: «Дурак. Что я знал? Даже отказывался ходить в турпоходы по памятным местам». Я оглянулся. Жукова нигде не было. «Может, он тоже варварствовал над памятником старины и понял, какое преступление делать это... и убежал... переживает, наверно». Я собрал пластинки и проигрыватель, не дожидаясь конца выступления, незаметно вышел на улицу и присел на крыльцо. После духоты было хорошо вдохнуть прохладный чистый воздух. В деревне стояла тишина. Только с пруда доносилось кваканье лягушек. И ночные бабочки под фонарем в желтом конусе света танцевали, тихо шурша крыльями. «Какой день! Вот это день! Таких дней у меня еще не было в жизни!» — думал я, счастливый, жалея только о том, что рядом нет Жукова. I 26 Домой из клуба мы шли вместе: я, дедушка, археолог и его коллега — очень милая девушка Рита. Я это отметил, когда она, знакомясь со мной, с уважением сказала: — Очень любопытно и очень трогательно вы экспериментируете. Такой малыш, а уже знаток человеческой души! Эти слова слышал дедушка, и я был благодарен Рите за них, хотя никаким знатоком себя не считал. И за слово «малыш» я почти совсем не обиделся на нее. Потом нас неожиданно догнал Сенашкин. Археолог извинился и отошел с Ритой в сторону. Сенашкин обнял дедушку и сказал: — Ну, дед Степан! Весь век не забуду, как ты мне мозги вправил! Жива теперь душа, и все! — Чур, так не пойдет! — возмутился я. — Это музыка с кибернетикой вправили вам мозги! Действительно! Я волновался, ставя такой опыт, думал, что он первый в мире. Сенашкин сам сказал, что музыка совесть в нем пробудила и вдруг — на тебе. — Верно, Егор! Так что и ты правильно рассудил. А деду твоему я сразу признался, — сказал Сенашкин. — Я и без кибернетики управился с ним! — поддразнил меня дедушка. — Нет! Нет! — возразил Сенашкин, наверно, для того, чтобы я не расстроился, — без кибернетики я бы так не понял насчет совести. Ты все «совесть, совесть!», а он «информация, как себя правильно вести... обратная связь». Он, брат, все как на ладони выложил. Голова — твой Егор! — В меня пошел башкой! — гордо сказал дедушка. Сенашкин ушел домой. Слова дедушки меня обрадовали. И вообще я успокоился; ведь музыка и кибернетика все-таки помогли! И еще как! 27 Мы остановились у калитки, поджидая Риту и археолога. Дедушка сказал, что они должны остаться у нас ночевать. Когда все мы вошли в дом, Рита почему-то сказала, посмотрев на потолок, пол и стены. — Сучки как глаза! Ах, вы, милые! Ах, вы, раскосые... добрые! У археолога при этом был такой вид, как будто он остановился в удивлении перед прекрасным. Я тоже посмотрел на сучки. Посмотрел и хмыкнул, — сучки и вправду были похожи на глаза: и на прищуренные, с хитрецой, и на широко открытые, с большими зрачками, и на глупые, круглые, как у меня, трехмесячного, на фотографии, и на Ритины — красивые, с немного подведенными уголками... — В каждом дереве душа есть, — сказал дедушка, подмигнув мне. После ужина мы с археологом залезли на сеновал, легли рядом, но разговориться не могли. Только я спрашивал: «А как, по-вашему?» — он перебивал меня: «Тихо... тихо!» — и наконец сказал: — Гармошка тоже чудо... Как выводит! Словно тоненькая струна между ней и моим сердцем... и страшно, если она разорвется. Вот ты, Егор, говорил о моделировании чувств в электронных машинах... Да какие там к черту машины, когда один человек не может смоделировать свое чувство в другом человеке! Бред! А почему? Ответь мне — почему? — Машина-то сможет, а почему вы думаете, что человек не может? — Ха... действительно, почему я так думаю? — растерялся археолог. — Ах, нет! Это — невозможно. Невозможно! — А вы пробовали? Почему невозможно? — Вот вырастешь, Егор, тогда узнаешь... Тогда ты узнаешь, что такое... Но давай спать. У него, как у гармошки, у самого в голосе были страдания. — Тогда скажите, в чем секрет музыки? — не отставал я. — Я лично считаю, что она дарит нам ощущение бесконечности. Ведь так просто ее нельзя представить. Невозможно. И еще... помогает нам открывать в себе настоящие чувства... А каждое настоящее чувство, Егор, бесконечно... Увы! Это так. — Еще немного, и вы бы покончили с собой? Вас удержало искусство? — спросил я, вспомнив слова из завещания Бетховена, о которых, мне рассказал Жуков, когда мы после истории с Мордаем возвращались домой. — Это не совсем так. Но в моем положении нельзя не сказать музыке спасибо. — А почему музыка разная? Бетховен, Чайковский, и джаз, и гармошка... Гармошка от слова гармония? — спросил я. 5* 35 |








