Костёр 1969-12, страница 5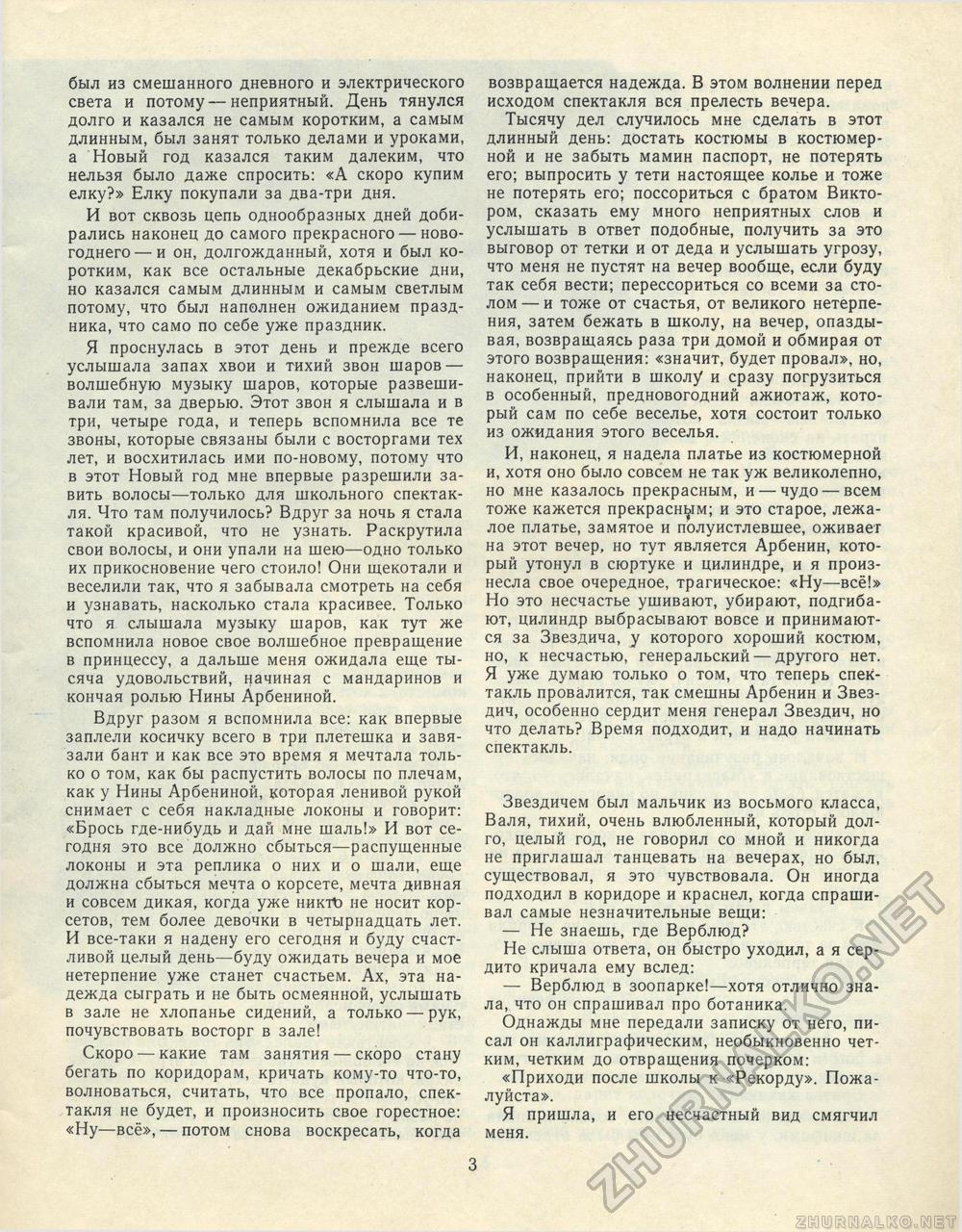
был из смешанного дневного и электрического света и потому — неприятный. День тянулся долго и казался не самым коротким, а самым длинным, был занят только делами и уроками, а Новый год казался таким далеким, что нельзя было даже спросить: «А скоро купим елку?» Елку покупали за два-три дня. И вот сквозь цепь однообразных дней добирались наконец до самого прекрасного — новогоднего— и он, долгожданный, хотя и был коротким, как все остальные декабрьские дни, но казался самым длинным и самым светлым потому, что был наполнен ожиданием праздника, что само по себе уже праздник. Я проснулась в этот день и прежде всего услышала запах хвои и тихий звон шаров — волшебную музыку шаров, которые развешивали там, за дверью. Этот звон я слышала и в три, четыре года, и теперь вспомнила все те звоны, которые связаны были с восторгами тех лет, и восхитилась ими по-новому, потому что в этот Новый год мне впервые разрешили завить волосы—только для школьного спектакля. Что там получилось? Вдруг за ночь я стала такой красивой, что не узнать. Раскрутила свои волосы, и они упали на шею—одно только их прикосновение чего стоило! Они щекотали и веселили так, что я забывала смотреть на себя и узнавать, насколько стала красивее. Только что я слышала музыку шаров, как тут же вспомнила новое свое волшебное превращение в принцессу, а дальше меня ожидала еще тысяча удовольствий, начиная с мандаринов и кончая ролью Нины Арбениной. Вдруг разом я вспомнила все: как впервые заплели косичку всего в три плетешка и завязали бант и как все это время я мечтала только о том, как бы распустить волосы по плечам, как у Нины Арбениной, которая ленивой рукой снимает с себя накладные локоны и говорит: «Брось где-нибудь и дай мне шаль!» И вот сегодня это все должно сбыться—распущенные локоны и эта реплика о них и о шали, еще должна сбыться мечта о корсете, мечта дивная и совсем дикая, когда уже никтъ не носит корсетов, тем более девочки в четырнадцать лет. И все-таки я надену его сегодня и буду счастливой целый день—буду ожидать вечера и мое нетерпение уже станет счастьем. Ах, эта надежда сыграть и не быть осмеянной, услышать в зале не хлопанье сидений, а только — рук, почувствовать восторг в зале! Скоро — какие там занятия — скоро стану бегать по коридорам, кричать кому-то что-то, волноваться, считать, что все пропало, спектакля не будет, и произносить свое горестное: «Ну—всё», — потом снова воскресать, когда возвращается надежда. В этом волнении перед исходом спектакля вся прелесть вечера. Тысячу дел случилось мне сделать в этот длинный день: достать костюмы в костюмерной и не забыть мамин паспорт, не потерять его; выпросить у тети настоящее колье и тоже не потерять его; поссориться с братом Виктором, сказать ему много неприятных слов и услышать в ответ подобные, получить за это выговор от тетки и от деда и услышать угрозу, что меня не пустят на вечер вообще, если буду так себя вести; перессориться со всеми за столом — и тоже от счастья, от великого нетерпения, затем бежать в школу, на вечер, опаздывая, возвращаясь раза три домой и обмирая от этого возвращения: «значит, будет провал», но, наконец, прийти в школу и сразу погрузиться в особенный, предновогодний ажиотаж, который сам по себе веселье, хотя состоит только из ожидания этого веселья. И, наконец, я надела платье из костюмерной и, хотя оно было совсем не так уж великолепно, но мне казалось прекрасным, и — чудо — всем тоже кажется прекрасным; и это старое, лежалое платье, замятое и полуистлевшее, оживает на этот вечер, но тут является Арбенин, который утонул в сюртуке и цилиндре, и я произнесла свое очередное, трагическое: «Ну—всё!» Но это несчастье ушивают, убирают, подгибают, цилиндр выбрасывают вовсе и принимаются за Звездича, у которого хороший костюм, но, к несчастью, генеральский — другого нет. Я уже думаю только о том, что теперь спектакль провалится, так смешны Арбенин и Звез-дич, особенно сердит меня генерал Звездич, но что делать? Время подходит, и надо начинать спектакль. Звездичем был мальчик из восьмого класса, Валя, тихий, очень влюбленный, который долго, целый год, не говорил со мной и никогда не приглашал танцевать на вечерах, но был, существовал, я это чувствовала. Он иногда подходил в коридоре и краснел, когда спрашивал самые незначительные вещи: — Не знаешь, где Верблюд? Не слыша ответа, он быстро уходил, а я сердито кричала ему вслед: — Верблюд в зоопарке!—хотя отлично знала, что он спрашивал про ботаника. Однажды мне передали записку от него, писал он каллиграфическим, необыкновенно четким, четким до отвращения почерком: «Приходи после школы к «Рекорду». Пожалуйста». Я пришла, и его несчастный вид смягчил меня. 3 |








