Костёр 1985-05, страница 42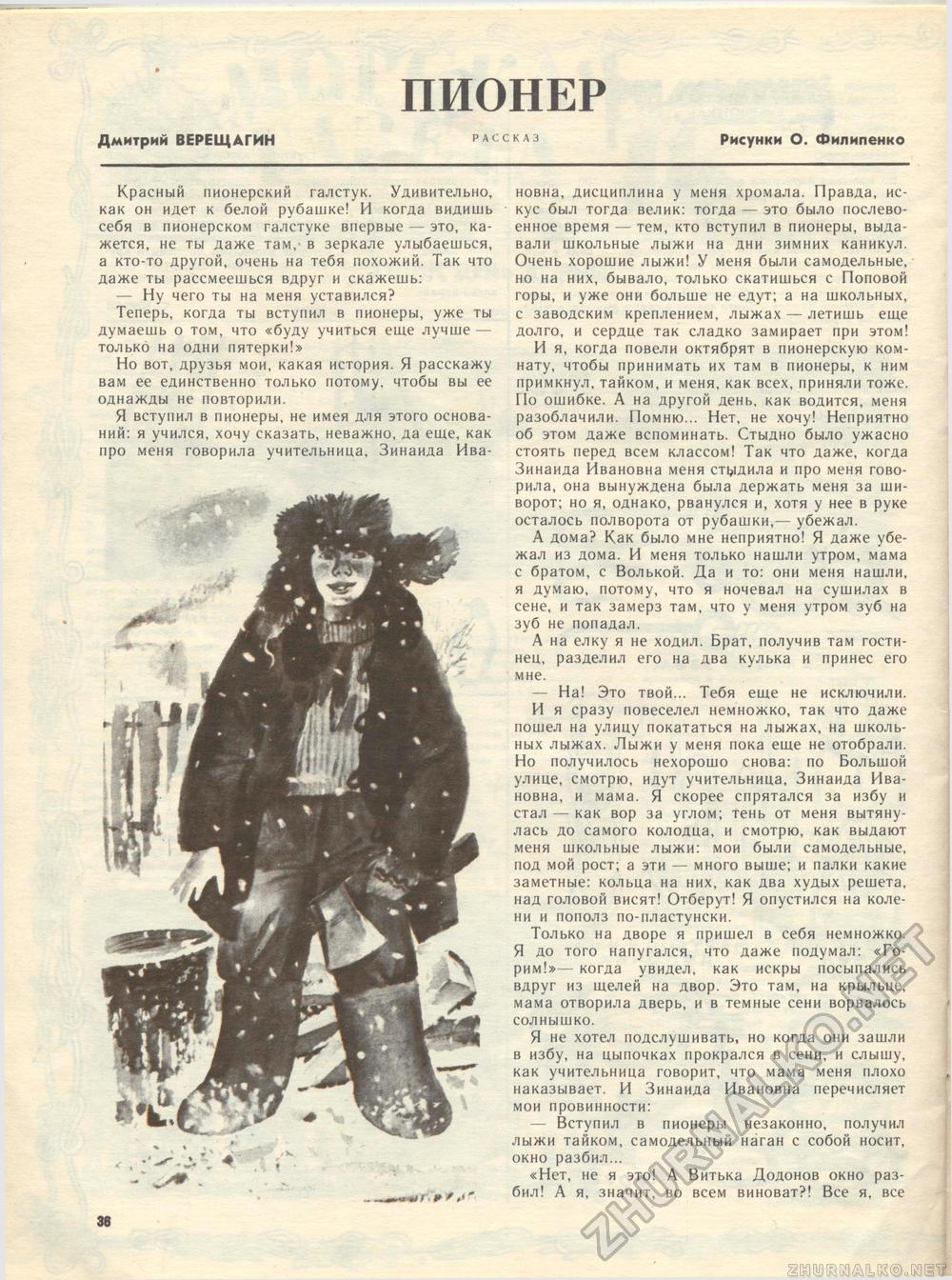
ПИОНЕРДмитрий ВЕРЕЩАГИН РАССКАЗ Рисунки О. Филипенко Красный пионерский галстук. Удивительно, как он идет к белой рубашке! И когда видишь себя в пионерском галстуке впервые — это, кажется, не ты даже там, в зеркале улыбаешься, а кто-то другой, очень на тебя похожий. Так что даже ты рассмеешься вдруг и скажешь: — Ну чего ты на меня уставился? Теперь, когда ты вступил в пионеры, уже ты думаешь о том, что «буду учиться еще лучше — только на одни пятерки!» Но вот, друзья мои, какая история. Я расскажу вам ее единственно только потому, чтобы вы ее однажды не повторили. Я вступил в пионеры, не имея для этого оснований: я учился, хочу сказать, неважно, да еще, как про меня говорила учительница, Зинаида Ива- Жг г * ' s новна, дисциплина у меня хромала. Правда, искус был тогда велик: тогда — это было послевоенное время — тем, кто вступил в пионеры, выдавали школьные лыжи на дни зимних каникул. Очень хорошие лыжи! У меня были самодельные, но на них, бывало, только скатишься с Поповой горы, и уже они больше не едут; а на школьных, с заводским креплением, лыжах — летишь еще долго, и сердце так сладко замирает при этом! И я, когда повели октябрят в пионерскую комнату, чтобы принимать их там в пионеры, к ним примкнул, тайком, и меня, как всех, приняли тоже. По ошибке. А на другой день, как водится, меня разоблачили. Помню... Нет, не хочу! Неприятно об этом даже вспоминать. Стыдно было ужасно стоять перед всем классом! Так что даже, когда Зинаида Ивановна меня студила и про меня говорила, она вынуждена была держать меня за шиворот; но я, однако, рванулся и, хотя у нее в руке осталось полворота от рубашки,— убежал. А дома? Как было мне неприятно! Я даже убежал из дома. И меня только нашли утром, мама с братом, с Волькой. Да и то: они меня нашли, я думаю, потому, что я ночевал на сушилах в сене, и так замерз там, что у меня утром зуб на зуб не попадал. А на елку я не ходил. Брат, получив там гостинец, разделил его на два кулька и принес его мне. — На! Это твой... Тебя еще не исключили. И я сразу повеселел немножко, так что даже пошел на улицу покататься на лыжах, на школьных лыжах. Лыжи у меня пока еще не отобрали. Но получилось нехорошо снова: по Большой улице, смотрю, идут учительница, Зинаида Ивановна, и мама. Я скорее спрятался за избу и стал — как вор за углом; тень от меня вытянулась до самого колодца, и смотрю, как выдают меня школьные лыжи: мои были самодельные, под мой рост; а эти — много выше; и палки какие заметные: кольца на них, как два худых решета, над головой висят! Отберут! Я опустился на колени и пополз по-пластунски. Только на дворе я пришел в себя немножко. Я до того напугался, что даже подумал: «Горим!»— когда увидел, как искры посыпались вдруг из щелей на двор. Это там, на крыльце, мама отворила дверь, и в темные сени ворвалось солнышко. Я не хотел подслушивать, но когда они зашли в избу, на цыпочках прокрался в сени, и слышу, как учительница говорит, что мама меня плохо наказывает. И Зинаида Ивановна перечисляет мои провинности: — Вступил в пионеры незаконно, получил лыжи тайком, самодельный наган с собой носит, окно разбил... «Нет, не я это! А Витька Додонов окно разбил! А я, значит, во всем виноват?! Все я, все 36 |








