Пионер 1988-10, страница 28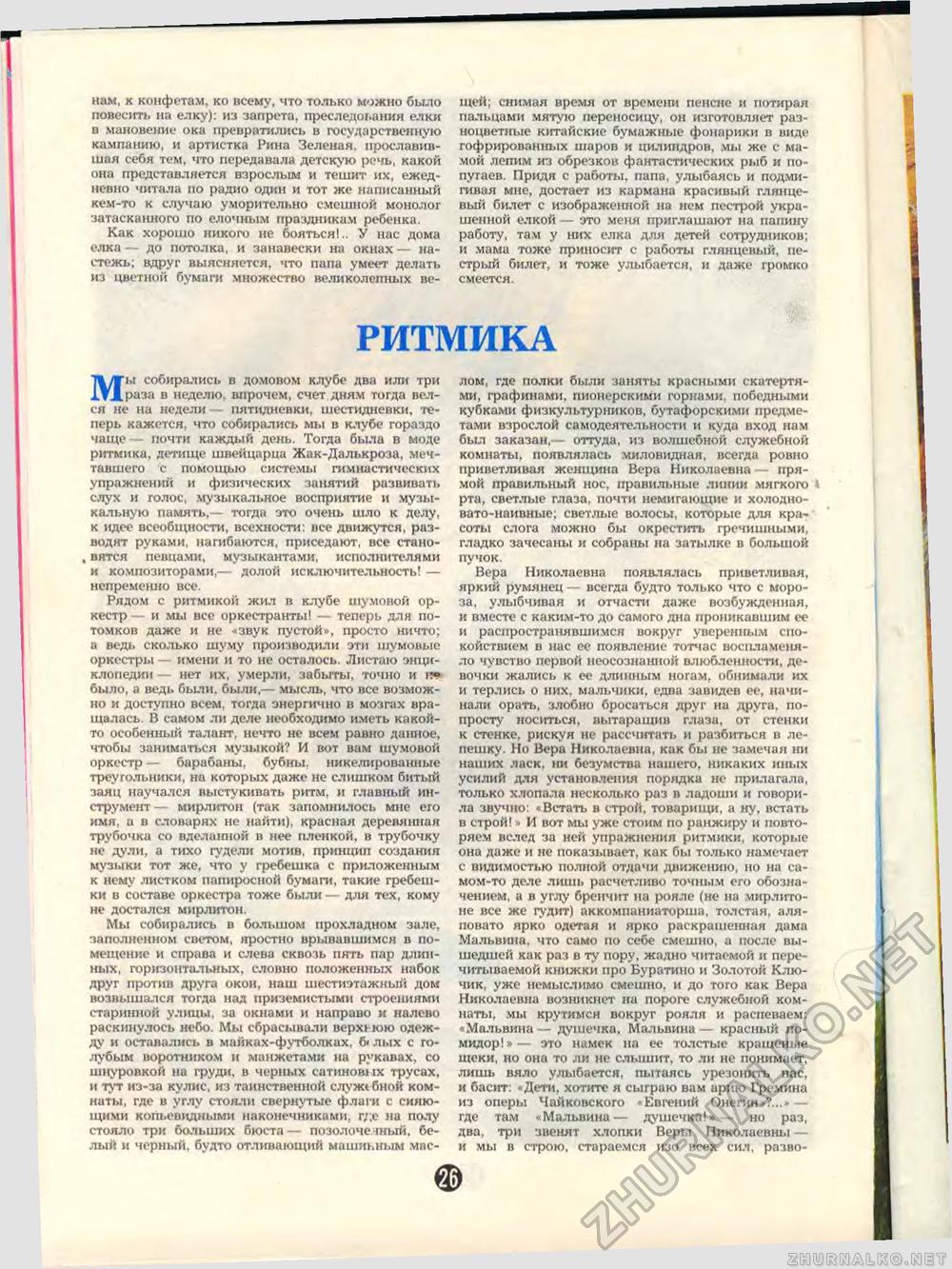
нам, к конфетам, ко всему, что только можно было повесить на елку): из запрета, преследог.анин елки в мановение ока превратились в государственную кампанию, и артистка Рина Зеленая, прославившая себя тем, что передавала детскую речь, какой она представляется взрослым и тешит их, ежедневно читала по радио один и гот же написанный кем-то к случаю уморительно смешной монолог затасканного по елочным праздникам ребенка. Как хорошо никого не бояться!.. У нас дома елка — до потолка, и занавески на окнах — настежь; вдруг выясняется, что папа умеет делать из цветной бумаги множество великолепных ве щей; снимая время от времени пенсне и потирая пальцами мятую переносицу, он изготовляет разноцветные китайские бумажные фонарики в виде гофрированных шаров и цилиндров, мы же с мамой лепим из обрезков фантастических рыб и попугаев. Придя с работы, папа, улыбаясь и подмигивая мне, достает из кармана красивый глянцевый билет с изображенной на нем пестрой украшенной елкой — ото меня приглашают на папину работу, там у них елка для детей сотрудников; и мама тоже приносит с работы глянцевый, пестрый билет, и тоже улыбается, и даже громко смеется. РИТМИКА Мы собирались в домовом клубе два или три раза в неделю, впрочем, счет дням тогда велся не на недели пятидневки, шестидневки, теперь кажется, что собирались мы в клубе гораздо чаще - почти каждый день. Тогда была в моде ритмика, детище швейцарца Жак-Далькроза, мечтавшего с помощью системы гимнастических упражнений и физических занятий развивать слух и голос, музыкальное восприятие и музыкальную память,— тогда это очень шло к делу, к идее всеобщности, всехности: все движутся, разводят руками, нагибаются, приседают, все стано-, вятся певцами, музыкантами, исполнителями и композиторами,— долой исключительность! — непременно все. Рядом с ритмикой жил в клубе шумовой оркестр и мы все оркестранты! - теперь для потомков даже и не «звук пустой», просто ничто; а ведь сколько шуму производили эти шумовые оркестры — имени и то не осталось. Листаю энциклопедии — нет их, умерли, забыты, точно и № было, а ведь были, были,— мысль, что все возможно и доступно всем, тогда энергично в мозгах вращалась. В самом ли деле необходимо иметь какой-то особенный талант, нечто не всем равно данное, чтобы заниматься музыкой? И вот вам шумовой оркестр — барабаны, бубны, никелированные треугольники, на которых даже не слишком битый заяц научался выстукивать ритм, и главный инструмент— мирлитои (так запомнилось мне его имя, а в словарях не найти), красная деревянная трубочка со вделанной в нее пленкой, в трубочку не дули, а тихо гудели мотив, принцип создания музыки тот же, что у гребешка с приложенным к нему листком папиросной бумаги, такие гребешки в составе оркестра тоже были— для тех, кому не достался мирлитои. Мы собирались в большом прохладном зале, заполненном светом, яростно врывавшимся в помещение и справа и слева сквозь пять пар длинных, горизонтальных, словно положенных набок друг против друга окон, наш шестиэтажный дом возвышался тогда над приземистыми строениями старинной улицы, за окнами и направо и налево раскинулось небо. Мы сбрасывали верхнюю одежду и оставались в майках-футболках, б» лых с голубым воротником и манжетами на рукавах, со шнуровкой на груди, в черных сатиновых трусах, и тут из-за кулис, из таинственной служебной комнаты, где в углу стояли свернутые флаги с сияющими копьевидными наконечниками, г;;е на полу стояло три больших бюста — позолоченный, белый и черный, будто отливающий машинным мас лом, где полки были заняты красными скатертями, графинами, пионерскими горнами, победными кубками физкультурников, бутафорскими предметами взрослой самодеятельности и куда вход нам был заказан,— оттуда, из волшебной служебной комнаты, появлялась миловидная, всегда ровно приветливая женщина Вера Николаевна — прямой правильный нос, правильные линии мягкого рта, светлые глаза, почти немигающие и холодновато-наивные; светлые волосы, которые для красоты слога можно бы окрестить гречишными, гладко зачесаны и собраны на затылке в большой пучок. Вера Николаевна появлялась приветливая, яркий румянец— всегда будто только что с мороза, улыбчивая и отчасти даже возбужденная, и вместе с каким-то до самого дна проникавшим ее и распространявшимся вокруг уверенным спокойствием в нас ее появление тотчас воспламеняло чувство первой неосознанной влюбленности, девочки жались к ее длинным ногам, обнимали их и терлись о них, мальчики, едва завидев ее, начинали орать, злобно бросаться друг на друга, попросту носиться, вытаращив глаза, от стенки к стенке, рискуя не рассчитать и разбиться в лепешку. Но Вера Николаевна, как бы не замечая ни наших ласк, ни безумства нашего, никаких иных усилий для установления порядка не прилагала, только хлопала несколько раз в ладоши и говорила звучно: «Встать в строй, товарищи, а ну, встать в строй! И вот мы уже стоим по ранжиру и повторяем вслед за ней упражнения ритмики, которые она даже и не показывает, как бы только намечает с видимостью полной отдачи движению, по на самом-то деле лишь расчетливо точным его обозначением. а в углу бренчит на рояле (не на мирлито-не все же гудит) аккомпаниаторша, толстая, аляповато ярко одетая и ярко раскрашенная дама Мальвина, что само по себе смешно, а после вышедшей как раз в ту пору, жадно читаемой и перечитываемой книжки про Буратино и Золотой Ключик, уже немыслимо смешно, и до того как Вера Николаевна возникнет на пороге служебной комнаты, мы крутимся вокруг рояля и распеваем: «Мальвина — душечка, Мальвина — красный помидор!»— это намек на ее толстые крашеные щеки, но она то ли не слышит, то ли не понимает, лишь вяло улыбается, пытаясь урезонить нас, и басит: '"Дети, хотите я сыграю вам арию Гремина из оперы Чайковского «Евгений Онегин*?...» — где там «Мальвина— душечка!»— но раз, два, три звенят хлопки Веры Николаевны — и мы в строю, стараемся изо всех сил, разво- © |








