Пионер 1988-11, страница 23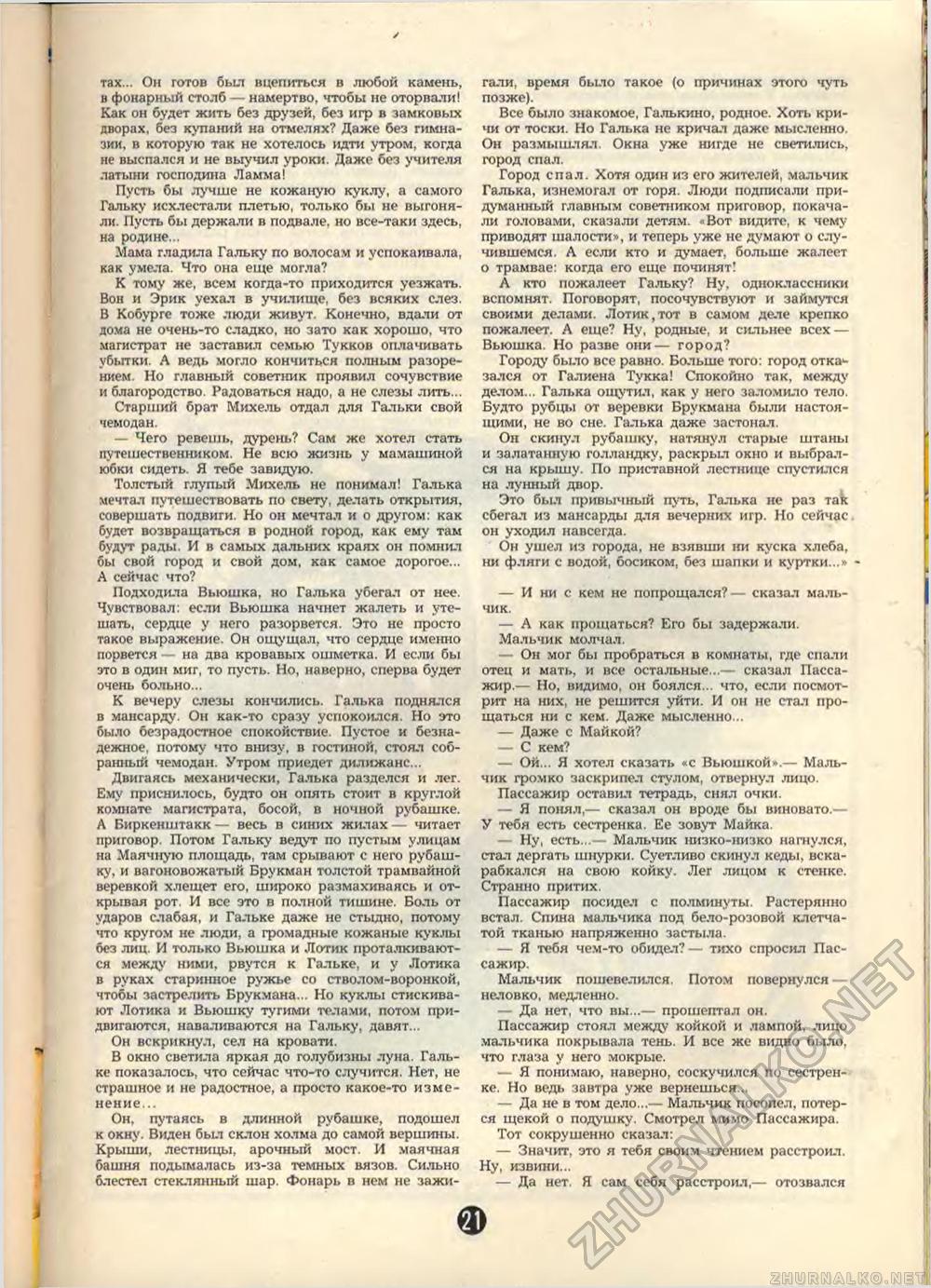
тах... Он готов был вцепиться в любой камень, в фонарный столб — намертво, чтобы не оторвали! Как он будет жить без друзей, без игр в замковых дворах, без купаний на отмелях? Даже без гимназии, в которую так не хотелось идти утром, когда не выспался и не выучил уроки. Даже без учителя латыни господина Ламма! Пусть бы лучше не кожаную куклу, а самого Гальку исхлестали плетыо, только бы не выгоняли. Пусть бы держали в подвале, но все-таки здесь, на родине... Мама гладила Гальку по волосам и успокаивала, как умела. Что она еще могла? К тому же, всем когда-то приходится уезжать. Вой и Эрик уехал в училище, без всяких слез. В Кобурге тоже люди живут. Конечно, вдали от дома не очень-то сладко, но зато как хорошо, что магистрат не заставил семью Тукков оплачивать убытки. А ведь могло кончиться полным разорением. Но главный советник проявил сочувствие и благородство. Радоваться надо, а не слезы лить... Старший брат Михель отдал для Гальки свой чемодан. — Чего ревешь, дурень? Сам же хотел стать путешественником. Не всю жизнь у мамашиной юбки сидеть. Я тебе завидую. Толстый глупый Михель не понимал! Галька мечтал путешествовать по свету, делать открытия, совершать подвиги. Но он мечтал и о другом: как будет возвращаться в родной город, как ему там будут рады. И в самых дальних краях он помнил бы свой город и свой дом, как самое дорогое... А сейчас что? Подходила Вьюшка, но Галька убегал от нее. Чувствовал: если Вьюшка начнет жалеть и утешать, сердце у него разорвется. Это не просто такое выражение. Он ощущал, что сердце именно порвется на два кровавых ошметка. И если бы это в один миг, то пусть. Но, наверно, сперва будет очень больно... К вечеру слезы кончились. Галька поднялся в мансарду. Он как-то сразу успокоился. Но это было безрадостное спокойствие. Пустое и безнадежное, потому что внизу, в гостиной, стоял собранный чемодан. Утром приедет дилижанс... Двигаясь механически, Галька разделся и лег. Ему приснилось, будто он опять стоит в круглой комнате магистрата, босой, в ночной рубашке. А Биркенштакк— весь в синих жилах— читает приговор. Потом Гальку ведут по пустым улицам на Маячную площадь, там срывают с него рубашку, и вагоновожатый Брукман толстой трамвайной веревкой хлещет его, широко размахиваясь и открывая рот. И все это в полной тишине. Боль от ударов слабая, и Гальке даже не стыдно, потому что кругом не люди, а громадные кожаные куклы без лиц. И только Вьюшка и Лотик проталкиваются между ними, рвутся к Гальке, и у Лотика в руках старинное ружье со стволом-воронкой, чтобы застрелить Брукмана... Но куклы стискивают Лотика и Вьюшку тугими телами, потом придвигаются, наваливаются на Гальку, давят... Он вскрикнул, сел на кровати. В окно светила яркая до голубизны луна. Гальке показалось, что сейчас что-то случится. Нет, не страшное и не радостное, а просто какое-то изменение... Он, путаясь в длинной рубашке, подошел к окну. Виден был склон холма до самой вершины. Крыши, лестницы, арочный мост. И маячная башня подымалась из-за темных вязов. Сильно блестел стеклянный шар. Фонарь в нем не зажи гали, время было такое (о причинах этого чуть позже). Все было знакомое, Галькино, родное. Хоть кричи от тоски. Но Галька не кричал даже мысленно. Он размышлял. Окна уже нигде не светились, город спал. Город спал. Хотя один из его жителей, мальчик Галька, изнемогал от горя. Люди подписали придуманный главным советником приговор, покачали головами, сказали детям. «Вот видите, к чему приводят шалости», и теперь уже не думают о случившемся. А если кто и думает, больше жалеет о трамвае: когда его еще починят! А кто пожалеет Гальку? Ну, одноклассники вспомнят. Поговорят, посочувствуют и займутся своими делами. Лотик,тот в самом деле крепко пожалеет. А еще? Ну, родные, и сильнее всех — Вьюшка. Но разве они— город? Городу было все равно. Больше того: город отка^-зался от Галиена Тукка! Спокойно так, между делом... Галька ощутил, как у него заломило тело. Будто рубцы от веревки Брукмана были настоящими, не во сне. Галька даже застонал. Он скинул рубашку, натянул старые штаны и залатанную голландку, раскрыл окно и выбрался на крышу. По приставной лестнице спустился на лунный двор. Это был привычный путь, Галька не раз так сбегал из мансарды для вечерних игр. Но сейчас он уходил навсегда. Он ушел из города, не взявши ни куска хлеба, ни фляги с водой, босиком, без шапки и куртки...» - — И ни с кем не попрощался?— сказал мальчик. — А как прощаться? Его бы задержали. Мальчик молчал. — Он мог бы пробраться в комнаты, где спали отец и мать, и все остальные,..— сказал Пассажир.— Но, видимо, он боялся... что, если посмотрит на них, не решится уйти. И он не стал прощаться ни с кем. Даже мысленно... — Даже с Майкой? — С кем? — Ой... Я хотел сказать «с Вьюшкой».— Мальчик громко заскрипел стулом, отвернул лицо. Пассажир оставил тетрадь, снял очки. — Я понял,— сказал он вроде бы виновато.— У тебя есть сестренка. Ее зовут Майка. — Ну, есть...— Мальчик низко-низко нагнулся, стал дергать шнурки. Суетливо скинул кеды, вскарабкался на свою койку. Лег лицом к стенке. Странно притих. Пассажир посидел с полминуты. Растерянно встал. Спина мальчика под бело-розовой клетчатой тканью напряженно застыла. — Я тебя чем-то обидел?— тихо спросил Пассажир. Мальчик пошевелился. Потом повернулся неловко, медленно. — Да нет, что вы...— прошептал он. Пассажир стоял между койкой и лампой, лицо мальчика покрывала тень. И все же видно было, что глаза у него мокрые. — Я понимаю, наверно, соскучился по сестренке. Но ведь завтра уже вернешься... — Да не в том дело...— Мальчик посопел, потерся щекой о подушку. Смотрел мимо Пассажира. Тот сокрушенно сказал: — Значит, это я тебя своим чтением расстроил. Ну, извини... — Да нет. Я сам себя расстроил,— отозвался Ф |








