Пионер 1989-11, страница 13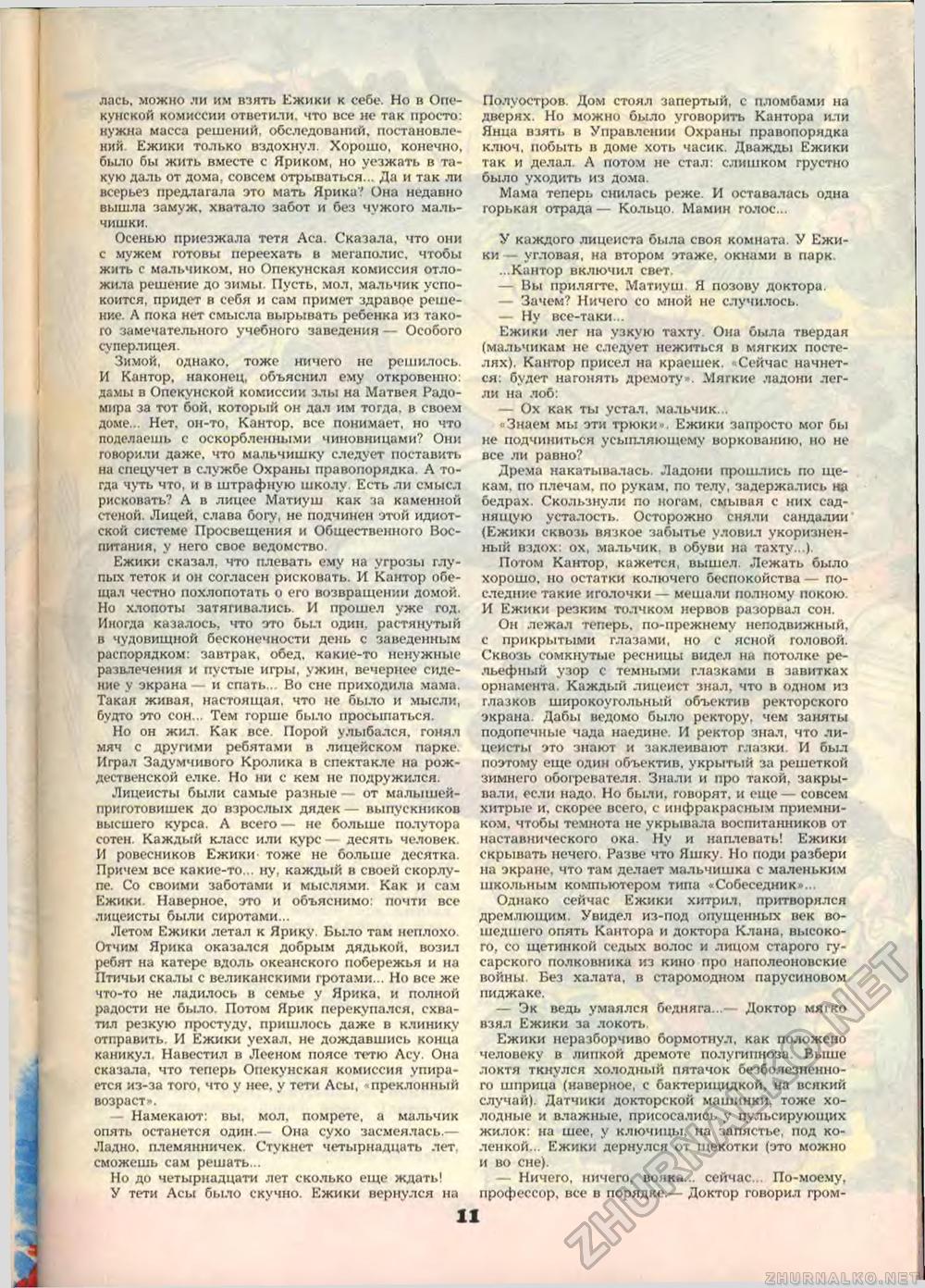
лаСЬ, можно ли им взять Ежики к себе. Но в Опекунской комиссии ответили, что все не так просто: нужна масса решений, обследований, постановлений Ежики только вздохнул. Хорошо, конечно, было бы жить вместе с Яриком, но уезжать в такую даль от дома, совсем отрываться... Да и так ли всерьез предлагала это мать Ярика? Она недавно вышла замуж, хватало забот и без чужого мальчишки. Осенью приезжала тетя Аса. Сказала, что они с мужем готовы переехать в мегаполис, чтобы жить с мальчиком, но Опекунская комиссия отложила решение до зимы. Пусть, мол, мальчик успокоится, придет в себя и сам примет здравое решение. А пока нет смысла вырывать ребенка из такого замечательного учебного заведения -- Особого суперлицея. Зимой, однако, тоже ничего не решилось. И Кантор, наконец, объяснил ему откровенно: дамы в Опекунской комиссии злы на Матвея Радо-мира за тот бой, который он дал им тогда, в своем доме... Нет, он-то, Кантор, все понимает, но что поделаешь с оскорбленными чиновницами? Они говорили даже, что мальчишку следует поставить на спецучет в службе Охраны правопорядка. А тогда чуть что, и в штрафную школу. Есть ли смысл рисковать'' А в лицее Матиуш как за каменной стеной. Лицей, слава богу, не подчинен этой идиотской системе Просвещения и Общественного Воспитания, у него свое ведомство. Ежики сказал, что плевать ему на угрозы глупых теток и он согласен рисковать. И Кантор обещал честно похлопотать о его возвращении домой. Но хлопоты затягивались. И прошел уже год. Иногда казалось, что это был один, растянутый в чудовищной бесконечности день с заведенным распорядком: завтрак, обед, какие-то ненужные развлечения и пустые игры, ужин, вечернее сидение у экрана и спать... Во сне приходила мама. Такая живая, настоящая, что не было и мысли, будто это сон... Тем горше было просыпаться. Но он жил. Как все. Порой улыбался, гонял мяч с другими ребятами в лицейском парке. Играл Задумчивого Кролика в спектакле на рождественской елке. Но ни с кем не подружился. Лицеисты были самые разные от малышей-приготовишек до взрослых дядек — выпускников высшего курса. А всего — не больше полутора сотен. Каждый класс или курс десять человек. И ровесников Ежики- тоже не больше десятка. Причем все какие-то... ну, каждый в своей скорлупе. Со своими заботами и мыслями. Как и сам Ежики. Наверное, это и объяснимо: почти все лицеисты были сиротами... Летом Ежики летал к Ярику. Было там неплохо Отчим Ярика оказался добрым дядькой, возил ребят на катере вдоль океанского побережья и на Птичьи скалы с великанскими гротами... Но все же что-то не ладилось в семье у Ярика. и полной радости не было. Потом Ярик перекупался, схватил резкую простуду, пришлось даже в клинику отправить. И Ежики уехал, не дождавшись конца каникул. Навестил в Лееном поясе тетю Асу. Она сказала, что теперь Опекунская комиссия упирается из-за того, что у нее, у тети Асы, «преклонный возраст». Намекают: вы, мол, помрете, а мальчик опять останется один.— Она сухо засмеялась.— Ладно, племянничек. Стукнет четырнадцать лет. сможешь сам решать... Но до четырнадцати лет сколько еще ждать! У тети Асы было скучно. Ежики вернулся на Полуостров. Дом стоя.ч запертый, с пломбами на дверях. Но можно было уговорить Кантора или Янца взять в Управлении Охраны правопорядка ключ, побыть в доме хоть часик. Дважды Ежики так и делал. А потом не стал: слишком грустно было уходить из дома. Мама теперь ашлась реже. И оставалась одна горькая отрада — Кольцо. Мамин голос... У каждого лицеиста была своя комната. У Ежики угловая, на втором этаже, окнами в парк. ...Кантор включил свет. — Вы прилягте, Матиуш. Я позову доктора. Зачем? Ничего со мной не случилось. — Ну все-таки... Ежики лег на узкую тахту. Она была твердая (мальчикам не следует нежиться в мягких постелях). Кантор присел на краешек. Сейчас начнется: будет нагонять дремоту». Мягкие ладони легли на лоб: — Ох как ты устал, мальчик... в Знаем мы эти трюки». Ежики запросто мог бы не подчиниться усыпляющему воркованию, но не все ли равно? Дрема накатывалась. Ладони прошлись по щекам. по плечам, по рукам, по телу, задержались на бедрах. Скользнули по ногам, смывая с них саднящую усталость. Осторожно сняли сандалии (Ежики сквозь вязкое забытье уловил укоризненный вздох: ох, мальчик, в обуви на тахту...), Потом Кантор, кажется, вышел. Лежать было хорошо, но остатки колючего беспокойства — последние такие иголочки — мешали полному покою. И Ежики резким толчком нервов разорвал сон. Он лежал теперь, по-прежнему неподвижный, с прикрытыми глазами, но с ясной головой. Сквозь сомкнутые ресницы видел на потолке рельефный узор с темными глазками в завитках орнамента. Каждый лицеист знал, что в одном из глазков широкоугольный объектив ректорского экрана. Дабы ведомо было ректору, чем заняты подопечные чада наедине. И ректор знал, что лицеист!, I это знают и заклеивают глазки. И был поэтому еще один объектив, укрытый за решеткой зимнего обогревателя. Знали и про такой, закрывали, если надо. Но были, говорят, и еще— совсем хитрые и, скорее всего, с инфракрасным приемником. чтобы темнота не укрывала воспитанников от наставнического ока. Ну и наплевать! Ежики скрывать нечего. Разве что Яшку. Но поди разбери на экране, что там делает мальчишка с маленьким школьным компьютером типа «Собеседник»... Однако сейчас Ежики хитрил, притворялся дремлющим. Увидел из-под опущенных век вошедшего опять Кантора и доктора Клана, высокого, со щетинкой седых волос и лицом старого гусарского полковника из кино про наполеоновские войны. Без халата, в старомодном парусиновом пиджаке. — Эк ведь умаялся бедняга...- Доктор мягко взял Ежики за локоть. Ежики неразборчиво бормотнул, как положено человеку в липкой дремоте полугипноза. Выше локтя ткнулся холодный пятачок безболезненного шприца (наверное, с бактерицидной, на всякий случай). Датчики докторской машинки, тоже холодные и влажные, присосались у пульсирующих жилок: на шее, у ключицы, на запястье, под коленкой... Ежики дернулся от щекотки (это можно и во сне). — Ничего, ничего, вояка... сейчас... По-моему, профессор, все в порядке.— Доктор говорил гром- 11 |








