Вокруг света 1967-01, страница 9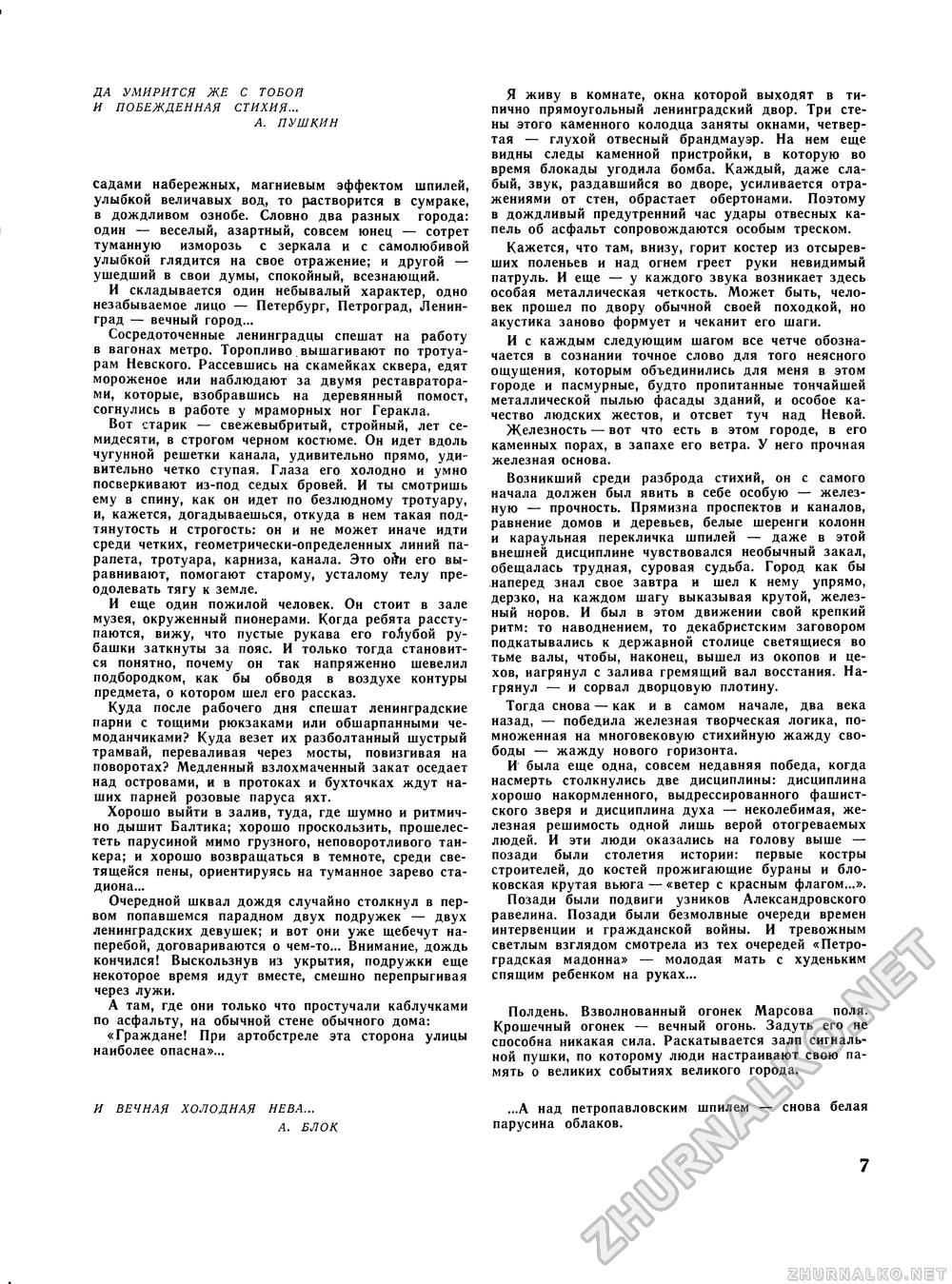
ДА УМИРИТСЯ ЖЕ С ТОБОЙ И ПОБЕЖДЕННАЯ СТИХИЯ... А. ПУШКИН садами набережных, магниевым эффектом шпилей, улыбкой величавых вод, то рсастворится в сумраке, в дождливом ознобе. Словно два разных города: один — веселый, азартный, совсем юнец — сотрет туманную изморозь с зеркала и с самолюбивой улыбкой глядится на свое отражение; и другой — ушедший в свои думы, спокойный, всезнающий. И складывается один небывалый характер, одно незабываемое лицо — Петербург, Петроград, Ленинград — вечный город... Сосредоточенные ленинградцы спешат на работу в вагонах метро. Торопливо вышагивают по тротуарам Невского. Рассевшись на скамейках сквера, едят мороженое или наблюдают за двумя реставраторами, которые, взобравшись на деревянный помост, согнулись в работе у мраморных ног Геракла. Вот старик — свежевыбритый, стройный, лет семидесяти, в строгом черном костюме. Он идет вдоль чугунной решетки канала, удивительно прямо, удивительно четко ступая. Глаза его холодно и умно посверкивают из-под седых бровей. И ты смотришь ему в спину, как он идет по безлюдному тротуару, и, кажется, догадываешься, откуда в нем такая подтянутость и строгость: он и не может иначе идти среди четких, геометрически-определенных линий парапета, тротуара, карниза, канала. Это ойи его выравнивают, помогают старому, усталому телу преодолевать тягу к земле. И еще один пожилой человек. Он стоит в зале музея, окруженный пионерами. Когда ребята расступаются, вижу, что пустые рукава его голубой рубашки заткнуты за пояс. И только тогда становится понятно, почему он так напряженно шевелил подбородком, как бы обводя в воздухе контуры предмета, о котором шел его рассказ. Куда после рабочего дня спешат ленинградские парни с тощими рюкзаками или обшарпанными чемоданчиками? Куда везет их разболтанный шустрый трамвай, переваливая через мосты, повизгивая на поворотах? Медленный взлохмаченный закат оседает над островами, и в протоках и бухточках ждут наших парней розовые паруса яхт. Хорошо выйти в залив, туда, где шумно и ритмично дышит Балтика; хорошо проскользить, прошелестеть парусиной мимо грузного, неповоротливого танкера; и хорошо возвращаться в темноте, среди светящейся пены, ориентируясь на туманное зарево стадиона... Очередной шквал дождя случайно столкнул в первом попавшемся парадном двух подружек — двух ленинградских девушек; и вот они уже щебечут наперебой, договариваются о чем-то... Внимание, дождь кончился! Выскользнув из укрытия, подружки еще некоторое время идут вместе, смешно перепрыгивая через лужи. А там, где они только что простучали каблучками по асфальту, на обычной стене обычного дома: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»... И ВЕЧНАЯ ХОЛОДНАЯ НЕВА... А. БЛОК Я живу в комнате, окна которой выходят в типично прямоугольный ленинградский двор. Три стены этого каменного колодца заняты окнами, четвертая — глухой отвесный брандмауэр. На нем еще видны следы каменной пристройки, в которую во время блокады угодила бомба. Каждый, даже слабый, звук, раздавшийся во дворе, усиливается отражениями от стен, обрастает обертонами. Поэтому в дождливый предутренний час удары отвесных капель об асфальт сопровождаются особым треском. Кажется, что там, внизу, горит костер из отсыревших поленьев и над огнем греет руки невидимый патруль. И еще — у каждого звука возникает здесь особая металлическая четкость. Может быть, человек прошел по двору обычной своей походкой, но акустика заново формует и чеканит его шаги. И с каждым следующим шагом все четче обозначается в сознании точное слово для того неясного ощущения, которым объединились для меня в этом городе и пасмурные, будто пропитанные тончайшей металлической пылью фасады зданий, и особое качество людских жестов, и отсвет туч над Невой. Железность — вот что есть в этом городе, в его каменных порах, в запахе его ветра. У него прочная железная основа. Возникший среди разброда стихий, он с самого начала должен был явить в себе особую — железную — прочность. Прямизна проспектов и каналов, равнение домов и деревьев, белые шеренги колонн и караульная перекличка шпилей — даже в этой внешней дисциплине чувствовался необычный закал, обещалась трудная, суровая судьба. Город как бы наперед знал свое завтра и шел к нему упрямо, дерзко, на каждом шагу выказывая крутой, железный норов. И был в этом движении свой крепкий ритм: то наводнением, то декабристским заговором подкатывались к державной столице светящиеся во тьме валы, чтобы, наконец, вышел из окопов и цехов, нагрянул с залива гремящий вал восстания. Нагрянул — и сорвал дворцовую плотину. Тогда снова — как и в самом начале, два века назад, — победила железная творческая логика, помноженная на многовековую стихийную жажду свободы — жажду нового горизонта. И была еще одна, совсем недавняя победа, когда насмерть столкнулись две дисциплины: дисциплина хорошо накормленного, выдрессированного фашистского зверя и дисциплина духа — неколебимая, железная решимость одной лишь верой отогреваемых людей. И эти люди оказались на голову выше — позади были столетия истории: первые костры строителей, до костей прожигающие бураны и бло-ковская крутая вьюга — «ветер с красным флагом...». Позади были подвиги узников Александровского равелина. Позади были безмолвные очереди времен интервенции и гражданской войны. И тревожным светлым взглядом смотрела из тех очередей «Петроградская мадонна» — молодая мать с худеньким спящим ребенком на руках... Полдень. Взволнованный огонек Марсова поля. Крошечный огонек — вечный огонь. Задуть его не способна никакая сила. Раскатывается залп сигнальной пушки, по которому люди настраивают свою память о великих событиях великого города. ...А над петропавловским шпилем — снова белая парусина облаков. |








