Вокруг света 1972-07, страница 61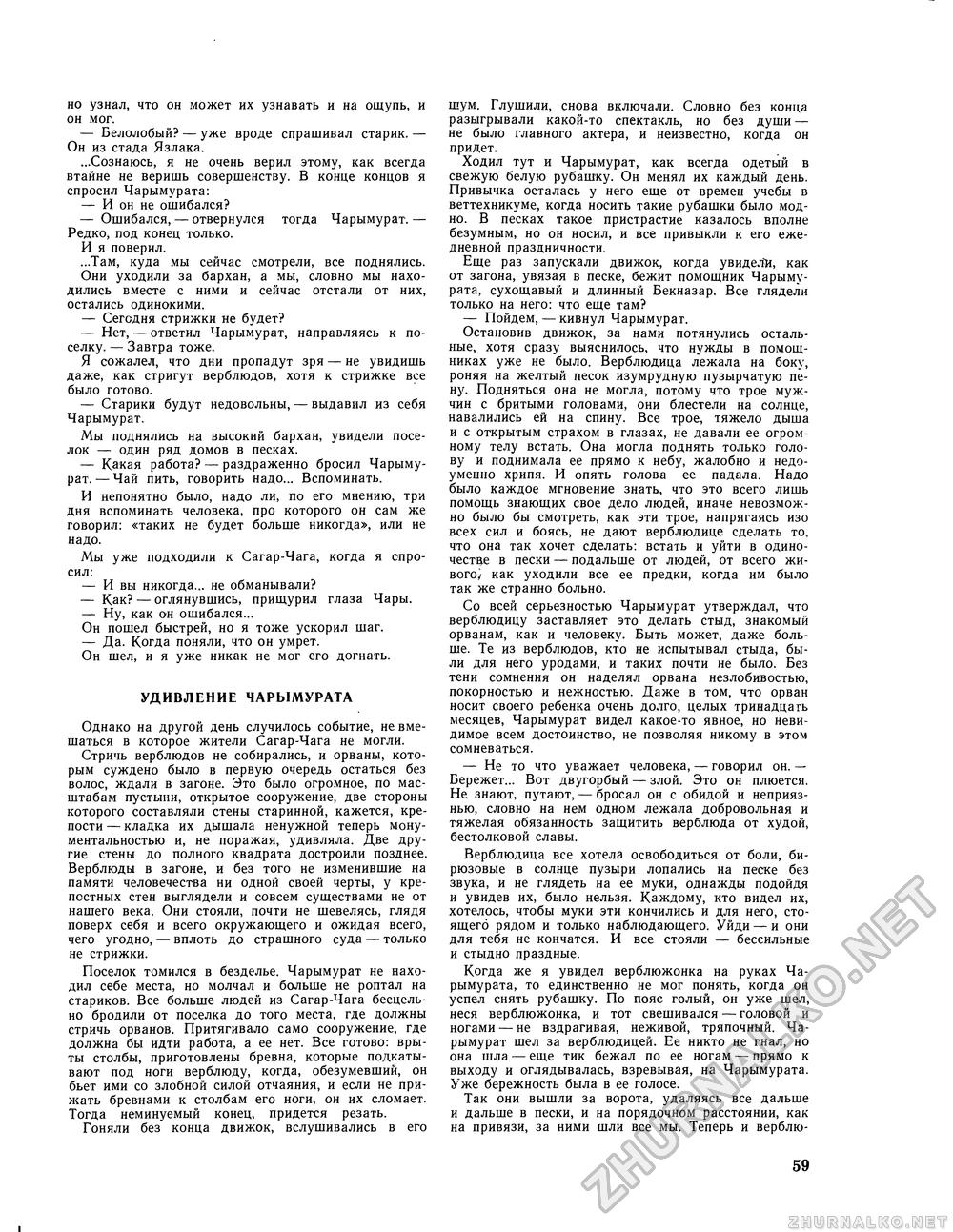
но узнал, что он может их узнавать и на ощупь, и он мог. — Белолобый? — уже вроде спрашивал старик. — Он из стада Язлака. ...Сознаюсь, я не очень верил этому, как всегда втайне не веришь совершенству. В конце концов я спросил Чарымурата: — И он не ошибался? — Ошибался, — отвернулся тогда Чарымурат. — Редко, под конец только. И я поверил. ...Там, куда мы сейчас смотрели, все поднялись. Они уходили за бархан, а мы, словно мы находились вместе с ними и сейчас отстали от них, остались одинокими. — Сегодня стрижки не будет? — Нет, — ответил Чарымурат, направляясь к поселку. — Завтра тоже. Я сожалел, что дни пропадут зря — не увидишь даже, как стригут верблюдов, хотя к стрижке все было готово. — Старики будут недовольны, — выдавил из себя Чарымурат. Мы поднялись на высокий бархан, увидели поселок — один ряд домов в песках. — Какая работа? — раздраженно бросил Чарымурат. — Чай пить, говорить надо... Вспоминать. И непонятно было, надо ли, по его мнению, три дня вспоминать человека, про которого он сам же говорил: «таких не будет больше никогда», или не надо. Мы уже подходили к Сагар-Чага, когда я спросил: — И вы никогда... не обманывали? — Как? — оглянувшись, прищурил глаза Чары. — Ну, как он ошибался... Он пошел быстрей, но я тоже ускорил шаг. — Да. Когда поняли, что он умрет. Он шел, и я уже никак не мог его догнать. УДИВЛЕНИЕ ЧАРЫМУРАТА Однако на другой день случилось событие, не вмешаться в которое жители Сагар-Чага не могли. Стричь верблюдов не собирались, и орваны, которым суждено было в первую очередь остаться без волос, ждали в загоне. Это было огромное, по масштабам пустыни, открытое сооружение, две стороны которого составляли стены старинной, кажется, крепости — кладка их дышала ненужной теперь монументальностью и, не поражая, удивляла. Две другие стены до полного квадрата достроили позднее. Верблюды в загоне, и без того не изменившие на памяти человечества ни одной своей черты, у крепостных стен выглядели и совсем существами не от нашего века. Они стояли, почти не шевелясь, глядя поверх себя и всего окружающего и ожидая всего, чего угодно, — вплоть до страшного суда — только не стрижки. Поселок томился в безделье. Чарымурат не находил себе места, но молчал и больше не роптал на стариков. Все больше людей из Сагар-Чага бесцельно бродили от поселка до того места, где должны стричь орванов. Притягивало са*мо сооружение, где должна бы идти работа, а ее нет. Все готово: врыты столбы, приготовлены бревна, которые подкатывают под ноги верблюду, когда, обезумевший, он бьет ими со злобной силой отчаяния, и если не прижать бревнами к столбам его ноги, он их сломает. Тогда неминуемый конец, придется резать. Гоняли без конца движок, вслушивались в его шум. Глушили, снова включали. Словно без конца разыгрывали какой-то спектакль, но без души — не было главного актера, и неизвестно, когда он придет. Ходил тут и Чарымурат, как всегда одетый в свежую белую рубашку. Он менял их каждый день. Привычка осталась у него еще от времен учебы в веттехникуме, когда носить такие рубашки было модно. В песках такое пристрастие казалось вполне безумным, но он носил, и все привыкли к его ежедневной праздничности. Еще раз запускали движок, когда увидели, как от загона, увязая в песке, бежит помощник Чарымурата, сухощавый и длинный Бекназар. Все глядели только на него: что еще там? — Пойдем, — кивнул Чарымурат. Остановив движок, за нами потянулись остальные, хотя сразу выяснилось, что нужды в помощниках уже не было. Верблюдица лежала на боку, роняя на желтый песок изумрудную пузырчатую пену. Подняться она не могла, потому что трое мужчин с бритыми головами, они блестели на солнце, навалились ей на спину. Все трое, тяжело дыша и с открытым страхом в глазах, не давали ее огромному телу встать. Она могла поднять только голову и поднимала ее прямо к небу, жалобно и недоуменно хрипя. И опять голова ее падала. Надо было каждое мгновение знать, что это всего лишь помощь знающих свое дело людей, иначе невозможно было бы смотреть, как эти трое, напрягаясь изо всех сил и боясь, не дают верблюдице сделать то, что она так хочет сделать: встать и уйти в одиночестве в пески — подальше от людей, от всего живого) как уходили все ее предки, когда им было так же странно больно. Со всей серьезностью Чарымурат утверждал, что верблюдицу заставляет это делать стыд, знакомый орванам, как и человеку. Быть может, даже больше. Те из верблюдов, кто не испытывал стыда, были для него уродами, и таких почти не было. Без тени сомнения он наделял орвана незлобивостью, покорностью и нежностью. Даже в том, что орван носит своего ребенка очень долго, целых тринадцать месяцев, Чарымурат видел какое-то явное, но невидимое всем достоинство, не позволяя никому в этом сомневаться. — Не то что уважает человека, — говорил он. — Бережет... Вот двугорбый — злой. Это он плюется. Не знают, путают, — бросал он с обидой и неприязнью, словно на нем одном лежала добровольная и тяжелая обязанность защитить верблюда от худой, бестолковой славы. Верблюдица все хотела освободиться от боли, бирюзовые в солнце пузыри лопались на песке без звука, и не глядеть на ее муки, однажды подойдя и увидев их, было нельзя. Каждому, кто видел их, хотелось, чтобы муки эти кончились и для него, стоящего рядом и только наблюдающего. Уйди — и они для тебя не кончатся. И все стояли — бессильные и стыдно праздные. Когда же я увидел верблюжонка на руках Чарымурата, то единственно не мог понять, когда он успел снять рубашку. По пояс голый, он уже шел, неся верблюжонка, и тот свешивался — головой и ногами — не вздрагивая, неживой, тряпочный. Чарымурат шел за верблюдицей. Ее никто не гнал, но она шла — еще тик бежал по ее ногам — прямо к выходу и оглядывалась, взревывая, на Чарымурата. Уже бережность была в ее голосе. Так они вышли за ворота, удаляясь все дальше и дальше в пески, и на порядочном расстоянии, как на привязи, за ними шли все мы. Теперь и верблю 59 I |








