Вокруг света 1988-03, страница 61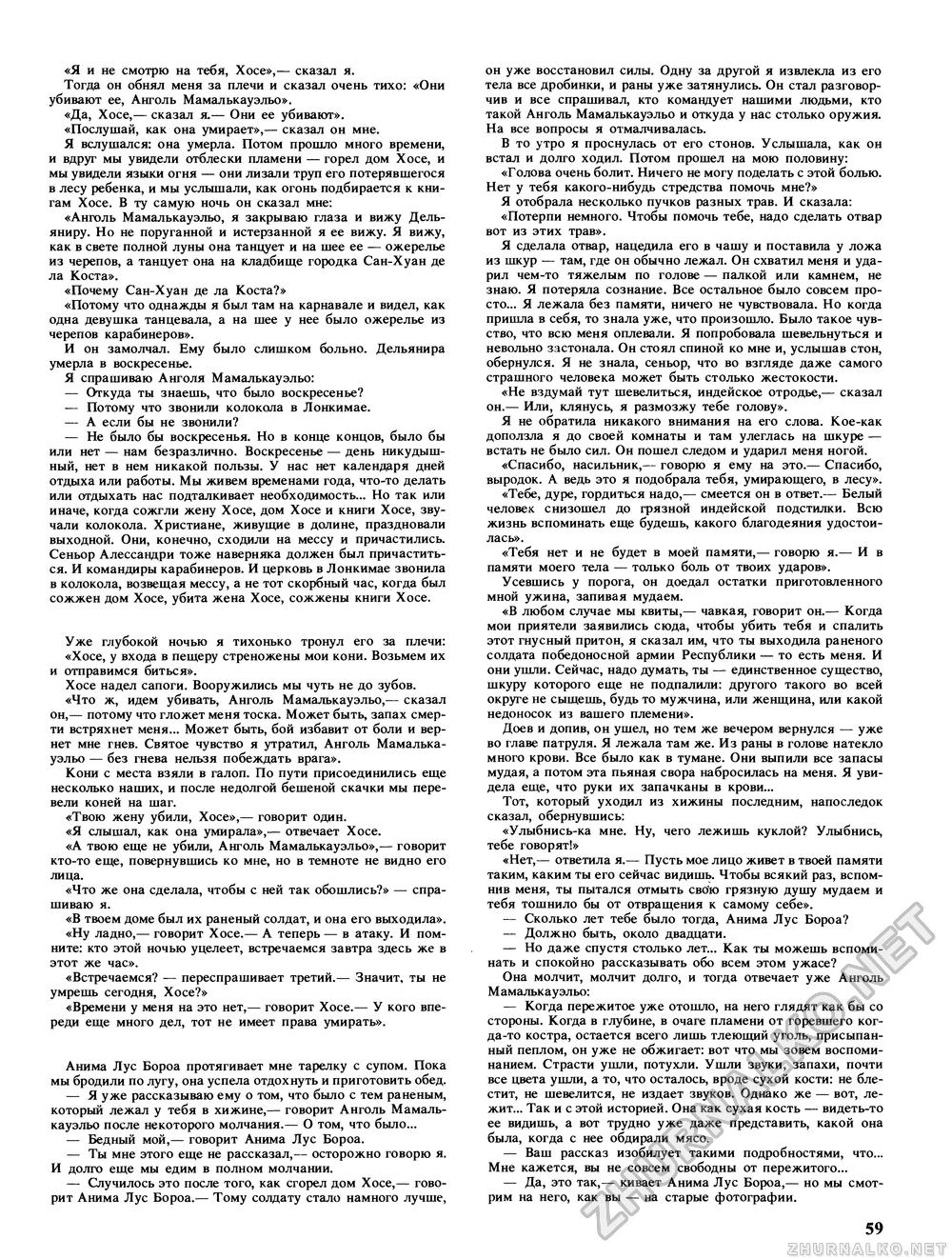
«Я и не смотрю на тебя, Хосе»,— сказал я. Тогда он обнял меня за плечи и сказал очень тихо: «Они убивают ее, Анголь Мамалькауэльо». «Да, Хосе,— сказал я.— Они ее убивают». «Послушай, как она умирает»,— сказал он мне. Я вслушался: она умерла. Потом прошло много времени, и вдруг мы увидели отблески пламени — горел дом Хосе, и мы увидели языки огня — они лизали труп его потерявшегося в лесу ребенка, и мы услышали, как огонь подбирается к книгам Хосе. В ту самую ночь он сказал мне: «Анголь Мамалькауэльо, я закрываю глаза и вижу Дель-яниру. Но не поруганной и истерзанной я ее вижу. Я вижу, как в свете полной луны она танцует и на шее ее — ожерелье из черепов, а танцует она на кладбище городка Сан-Хуан де ла Коста». «Почему Сан-Хуан де ла Коста?» «Потому что однажды я был там на карнавале и видел, как одна девушка танцевала, а на шее у нее было ожерелье из черепов карабинеров». И он замолчал. Ему было слишком больно. Дельянира умерла в воскресенье. Я спрашиваю Анголя Мамалькауэльо: — Откуда ты знаешь, что было воскресенье? — Потому что звонили колокола в Лонкимае. — А если бы не звонили? — Не было бы воскресенья. Но в конце концов, было бы или нет — нам безразлично. Воскресенье — день никудышный, нет в нем никакой пользы. У нас нет календаря дней отдыха или работы. Мы живем временами года, что-то делать или отдыхать нас подталкивает необходимость... Но так или иначе, когда сожгли жену Хосе, дом Хосе и книги Хосе, звучали колокола. Христиане, живущие в долине, праздновали выходной. Они, конечно, сходили на мессу и причастились. Сеньор Алессандри тоже наверняка должен был причаститься. И командиры карабинеров. И церковь в Лонкимае звонила в колокола, возвещая мессу, а не тот скорбный час, когда был сожжен дом Хосе, убита жена Хосе, сожжены книги Хосе. Уже глубокой ночью я тихонько тронул его за плечи: «Хосе, у входа в пещеру стреножены мои кони. Возьмем их и отправимся биться». Хосе надел сапоги. Вооружились мы чуть не до зубов. «Что ж, идем убивать, Анголь Мамалькауэльо,— сказал он,— потому что гложет меня тоска. Может быть, запах смерти встряхнет меня... Может быть, бой избавит от боли и вернет мне гнев. Святое чувство я утратил, Анголь Мамалькауэльо — без гнева нельзя побеждать врага». Кони с места взяли в галоп. По пути присоединились еще несколько наших, и после недолгой бешеной скачки мы перевели коней на шаг. «Твою жену убили, Хосе»,— говорит один. «Я слышал, как она умирала»,— отвечает Хосе. «А твою еще не убили, Анголь Мамалькауэльо»,— говорит кто-то еще, повернувшись ко мне, но в темноте не видно его лица. «Что же она сделала, чтобы с ней так обошлись?» — спрашиваю я. «В твоем доме был их раненый солдат, и она его выходила». «Ну ладно,— говорит Хосе.— А теперь — в атаку. И помните: кто этой ночью уцелеет, встречаемся завтра здесь же в этот же час». «Встречаемся? — переспрашивает третий.— Значит, ты не умрешь сегодня, Хосе?» «Времени у меня на это нет,— говорит Хосе.— У кого впереди еще много дел, тот не имеет права умирать». Анима Лус Бороа протягивает мне тарелку с супом. Пока мы бродили по лугу, она успела отдохнуть и приготовить обед. — Я уже рассказываю ему о том, что было с тем раненым, который лежал у тебя в хижине,— говорит Анголь Мамалькауэльо после некоторого молчания.— О том, что было... — Бедный мой,— говорит Анима Лус Бороа. — Ты мне этого еще не рассказал,— осторожно говорю я. И долго еще мы едим в полном молчании. — Случилось это после того, как сгорел дом Хосе,— говорит Анима Лус Бороа.— Тому солдату стало намного лучше, он уже восстановил силы. Одну за другой я извлекла из его тела все дробинки, и раны уже затянулись. Он стал разговорчив и все спрашивал, кто командует нашими людьми, кто такой Анголь Мамалькауэльо и откуда у нас столько оружия. На все вопросы я отмалчивалась. В то утро я проснулась от его стонов. Услышала, как он встал и долго ходил. Потом прошел на мою половину: «Голова очень болит. Ничего не могу поделать с этой болью. Нет у тебя какого-нибудь стредства помочь мне?» Я отобрала несколько пучков разных трав. И сказала: «Потерпи немного. Чтобы помочь тебе, надо сделать отвар вот из этих трав». Я сделала отвар, нацедила его в чашу и поставила у ложа из шкур — там, где он обычно лежал. Он схватил меня и ударил чем-то тяжелым по голове — палкой или камнем, не знаю. Я потеряла сознание. Все остальное было совсем просто... Я лежала без памяти, ничего не чувствовала. Но когда пришла в себя, то знала уже, что произошло. Было такое чувство, что всю меня оплевали. Я попробовала шевельнуться и невольно застонала. Он стоял спиной ко мне и, услышав стон, обернулся. Я не знала, сеньор, что во взгляде даже самого страшного человека может быть столько жестокости. «Не вздумай тут шевелиться, индейское отродье,— сказал он.— Или, клянусь, я размозжу тебе голову». Я не обратила никакого внимания на его слова. Кое-как доползла я до своей комнаты и там улеглась на шкуре — встать не было сил. Он пошел следом и ударил меня ногой. «Спасибо, насильник,— говорю я ему на это.— Спасибо, выродок. А ведь это я подобрала тебя, умирающего, в лесу». «Тебе, дуре, гордиться надо,— смеется он в ответ.— Белый человек снизошел до грязной индейской подстилки. Всю жизнь вспоминать еще будешь, какого благодеяния удостоилась». «Тебя нет и не будет в моей памяти,— говорю я.— И в памяти моего тела — только боль от твоих ударов». Усевшись у порога, он доедал остатки приготовленного мной ужина, запивая мудаем. «В любом случае мы квиты,— чавкая, говорит он.— Когда мои приятели заявились сюда, чтобы убить тебя и спалить этот гнусный притон, я сказал им, что ты выходила раненого солдата победоносной армии Республики — то есть меня. И они ушли. Сейчас, надо думать, ты — единственное существо, шкуру которого еще не подпалили: другого такого во всей округе не сыщешь, будь то мужчина, или женщина, или какой недоносок из вашего племени». Доев и допив, он ушел, но тем же вечером вернулся — уже во главе патруля. Я лежала там же. Из раны в голове натекло много крови. Все было как в тумане. Они выпили все запасы мудая, а потом эта пьяная свора набросилась на меня. Я увидела еще, что руки их запачканы в крови... Тот, который уходил из хижины последним, напоследок сказал, обернувшись: «Улыбнись-ка мне. Ну, чего лежишь куклой? Улыбнись, тебе говорят!» «Нет,— ответила я.— Пусть мое лицо живет в твоей памяти таким, каким ты его сейчас видишь. Чтобы всякий раз, вспомнив меня, ты пытался отмыть свОю грязную душу мудаем и тебя тошнило бы от отвращения к самому себе». — Сколько лет тебе было тогда, Анима Лус Бороа? — Должно быть, около двадцати. — Но даже спустя столько лет... Как ты можешь вспоминать и спокойно рассказывать обо всем этом ужасе? Она молчит, молчит долго, и тогда отвечает уже Анголь М амалькау эльо: — Когда пережитое уже отошло, на него глядят как бы со стороны. Когда в глубине, в очаге пламени от горевшего когда-то костра, остается всего лишь тлеющий уголь, присыпанный пеплом, он уже не обжигает: вот что мы зовем воспоминанием. Страсти ушли, потухли. Ушли звуки, запахи, почти все цвета ушли, а то, что осталось, вроде сухой кости: не блестит, не шевелится, не издает звуков. Однако же — вот, лежит... Так и с этой историей. Она как сухая кость — видеть-то ее видишь, а вот трудно уже даже представить, какой она была, когда с нее обдирали мясо. — Ваш рассказ изобилует такими подробностями, что... Мне кажется, вы не совсем свободны от пережитого... — Да, это так,— кивает Анима Лус Бороа,— но мы смотрим на него, как вы — на старые фотографии. , | |








