Вокруг света 1988-08, страница 62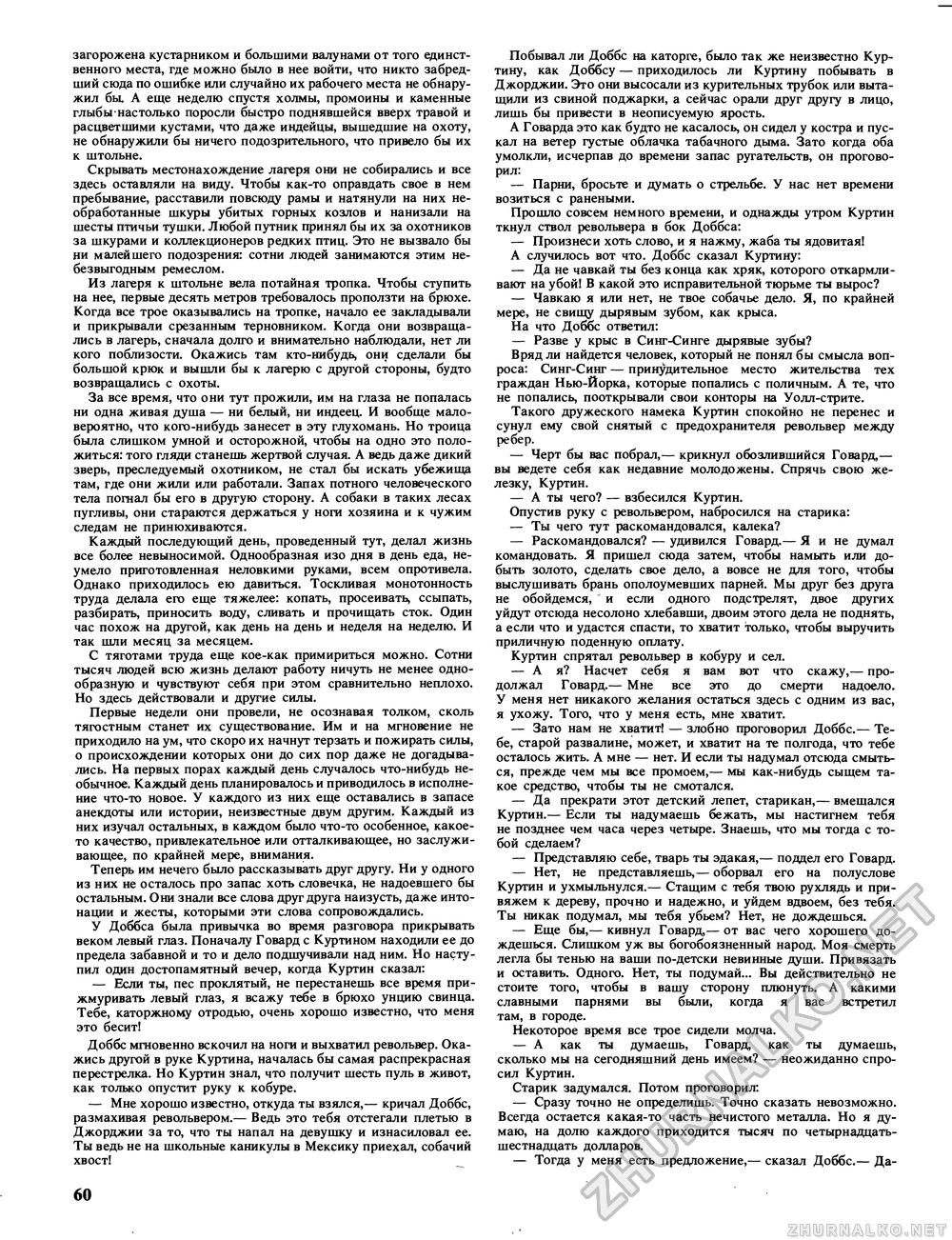
загорожена кустарником и большими валунами от того единственного места, где можно было в нее войти, что никто забредший сюда по ошибке или случайно их рабочего места не обнаружил бы. А еще неделю спустя холмы, промоины и каменные глыбы нас только поросли быстро поднявшейся вверх травой и расцветшими кустами, что даже индейцы, вышедшие на охоту, не обнаружили бы ничего подозрительного, что привело бы их к штольне. Скрывать местонахождение лагеря они не собирались и все здесь оставляли на виду. Чтобы как-то оправдать свое в нем пребывание, расставили повсюду рамы и натянули на них необработанные шкуры убитых горных козлов и нанизали на шесты птичьи тушки. Любой путник принял бы их за охотников за шкурами и коллекционеров редких птиц. Это не вызвало бы ни малейшего подозрения: сотни людей занимаются этим небезвыгодным ремеслом. Из лагеря к штольне вела потайная тропка. Чтобы ступить на нее, первые десять метров требовалось проползти на брюхе. Когда все трое оказывались на тропке, начало ее закладывали и прикрывали срезанным терновником. Когда они возвращались в лагерь, сначала долго и внимательно наблюдали, нет ли кого поблизости. Окажись там кто-нибудь, они сделали бы большой крюк и вышли бы к лагерю с другой стороны, будто возвращались с охоты. За все время, что они тут прожили, им на глаза не попалась ни одна живая душа — ни белый, ни индеец. И вообще маловероятно, что кого-нибудь занесет в эту глухомань. Но троица была слишком умной и осторожной, чтобы на одно это положиться: того гляди станешь жертвой случая. А ведь даже дикий зверь, преследуемый охотником, не стал бы искать убежища там, где они жили или работали. Запах потного человеческого тела погнал бы его в другую сторону. А собаки в таких лесах пугливы, они стараются держаться у ноги хозяина и к чужим следам не принюхиваются. Каждый последующий день, проведенный тут, делал жизнь все более невыносимой. Однообразная изо дня в день еда, неумело приготовленная неловкими руками, всем опротивела. Однако приходилось ею давиться. Тоскливая монотонность труда делала его еще тяжелее: копать, просеивать, ссыпать, разбирать, приносить воду, сливать и прочищать сток. Один час похож на другой, как день на день и неделя на неделю. И так шли месяц за месяцем. С тяготами труда еще кое-как примириться можно. Сотни тысяч людей всю жизнь делают работу ничуть не менее однообразную и чувствуют себя при этом сравнительно неплохо. Но здесь действовали и другие силы. Первые недели они провели, не осознавая толком, сколь тягостным станет их существование. Им и на мгновение не приходило на ум, что скоро их начнут терзать и пожирать силы, о происхождении которых они до сих пор даже не догадывались. На первых порах каждый день случалось что-нибудь необычное. Каждый день планировалось и приводилось в исполнение что-то новое. У каждого из них еще оставались в запасе анекдоты или истории, неизвестные двум другим. Каждый из них изучал остальных, в каждом было что-то особенное, какое-то качество, привлекательное или отталкивающее, но заслуживающее, по крайней мере, внимания. Теперь им нечего было рассказывать друг другу. Ни у одного из них не осталось про запас хоть словечка, не надоевшего бы остальным. Они знали все слова друг друга наизусть, даже интонации и жесты, которыми эти слова сопровождались. У Доббса была привычка во время разговора прикрывать веком левый глаз. Поначалу Говард с Куртином находили ее до предела забавной и то и дело подшучивали над ним. Но наступил один достопамятный вечер, когда Куртин сказал: — Если ты, пес проклятый, не перестанешь все время прижмуривать левый глаз, я всажу тебе в брюхо унцию свинца. Тебе, каторжному отродью, очень хорошо известно, что меня это бесит! Доббс мгновенно вскочил на ноги и выхватил револьвер. Окажись другой в руке Куртина, началась бы самая распрекрасная перестрелка. Но Куртин знал, что получит шесть пуль в живот, как только опустит руку к кобуре. — Мне хорошо известно, откуда ты взялся,— кричал Доббс, размахивая револьвером.— Ведь это тебя отстегали плетью в Джорджии за то, что ты напал на девушку и изнасиловал ее. Ты ведь не на школьные каникулы в Мексику приехал, собачий хвост! Побывал ли Доббс на каторге, было так же неизвестно Куртину, как Доббсу — приходилось ли Куртину побывать в Джорджии. Это они высосали из курительных трубок или вытащили из свиной поджарки, а сейчас орали друг другу в лицо, лишь бы привести в неописуемую ярость. А Говарда это как будто не касалось, он сидел у костра и пускал на ветер густые облачка табачного дыма. Зато когда оба умолкли, исчерпав до времени запас ругательств, он проговорил: — Парни, бросьте и думать о стрельбе. У нас нет времени возиться с ранеными. Прошло совсем немного времени, и однажды утром Куртин ткнул ствол револьвера в бок Доббса: — Произнеси хоть слово, и я нажму, жаба ты ядовитая! А случилось вот что. Доббс сказал Куртину: — Да не чавкай ты без конца как хряк, которого откармливают на убой! В какой это исправительной тюрьме ты вырос? — Чавкаю я или нет, не твое собачье дело. Я, по крайней мере, не свищу дырявым зубом, как крыса. На что Доббс ответил: — Разве у крыс в Синг-Синге дырявые зубы? Вряд ли найдется человек, который не понял бы смысла вопроса: Синг-Синг — принудительное место жительства тех граждан Нью-Йорка, которые попались с поличным. А те, что не попались, пооткрывали свои конторы на Уолл-стрите. Такого дружеского намека Куртин спокойно не перенес и сунул ему свой снятый с предохранителя револьвер между ребер. — Черт бы вас побрал,— крикнул обозлившийся Говард,— вы ведете себя как недавние молодожены. Спрячь свою железку, Куртин. — А ты чего? — взбесился Куртин. Опустив руку с револьвером, набросился на старика: — Ты чего тут раскомандовался, калека? — Раскомандовался? — удивился Говард.— Я и не думал командовать. Я пришел сюда затем, чтобы намыть или добыть золото, сделать свое дело, а вовсе не для того, чтобы выслушивать брань ополоумевших парней. Мы друг без друга не обойдемся, и если одного подстрелят, двое других уйдут отсюда несолоно хлебавши, двоим этого дела не поднять, а если что и удастся спасти, то хватит только, чтобы выручить приличную поденную оплату. Куртин спрятал револьвер в кобуру и сел. — А я? Насчет себя я вам вот что скажу,— продолжал Говард.— Мне все это до смерти надоело. У меня нет никакого желания остаться здесь с одним из вас, я ухожу. Того, что у меня есть, мне хватит. — Зато нам не хватит! — злобно проговорил Доббс.— Тебе, старой развалине, может, и хватит на те полгода, что тебе осталось жить. А мне — нет. И если ты надумал отсюда смыться, прежде чем мы все промоем,— мы как-нибудь сыщем такое средство, чтобы ты не смотался. — Да прекрати этот детский лепет, старикан,— вмешался Куртин.— Если ты надумаешь бежать, мы настигнем тебя не позднее чем часа через четыре. Знаешь, что мы тогда с тобой сделаем? — Представляю себе, тварь ты эдакая,— поддел его Говард. — Нет, не представляешь,— оборвал его на полуслове Куртин и ухмыльнулся.— Стащим с тебя твою рухлядь и привяжем к дереву, прочно и надежно, и уйдем вдвоем, без тебя. Ты никак подумал, мы тебя убьем? Нет, не дождешься. — Еще бы,— кивнул Говард,— от вас чего хорошего дождешься. Слишком уж вы богобоязненный народ. Моя смерть легла бы тенью на ваши по-детски невинные души. Привязать и оставить. Одного. Нет, ты подумай... Вы действительно не стоите того, чтобы в вашу сторону плюнуть. А какими славными парнями вы были, когда я вас встретил там, в городе. Некоторое время все трое сидели молча. — А как ты думаешь, Говард, как ты думаешь, сколько мы на сегодняшний день имеем? — неожиданно спросил Куртин. Старик задумался. Потом проговорил: — Сразу точно не определишь. Точно сказать невозможно. Всегда остается какая-то часть нечистого металла. Но я думаю, на долю каждого приходится тысяч по четырнадцать-шестнаддать долларов. — Тогда у меня есть предложение,— сказал Доббс.— Да 60 |








