Вокруг света 1989-12, страница 37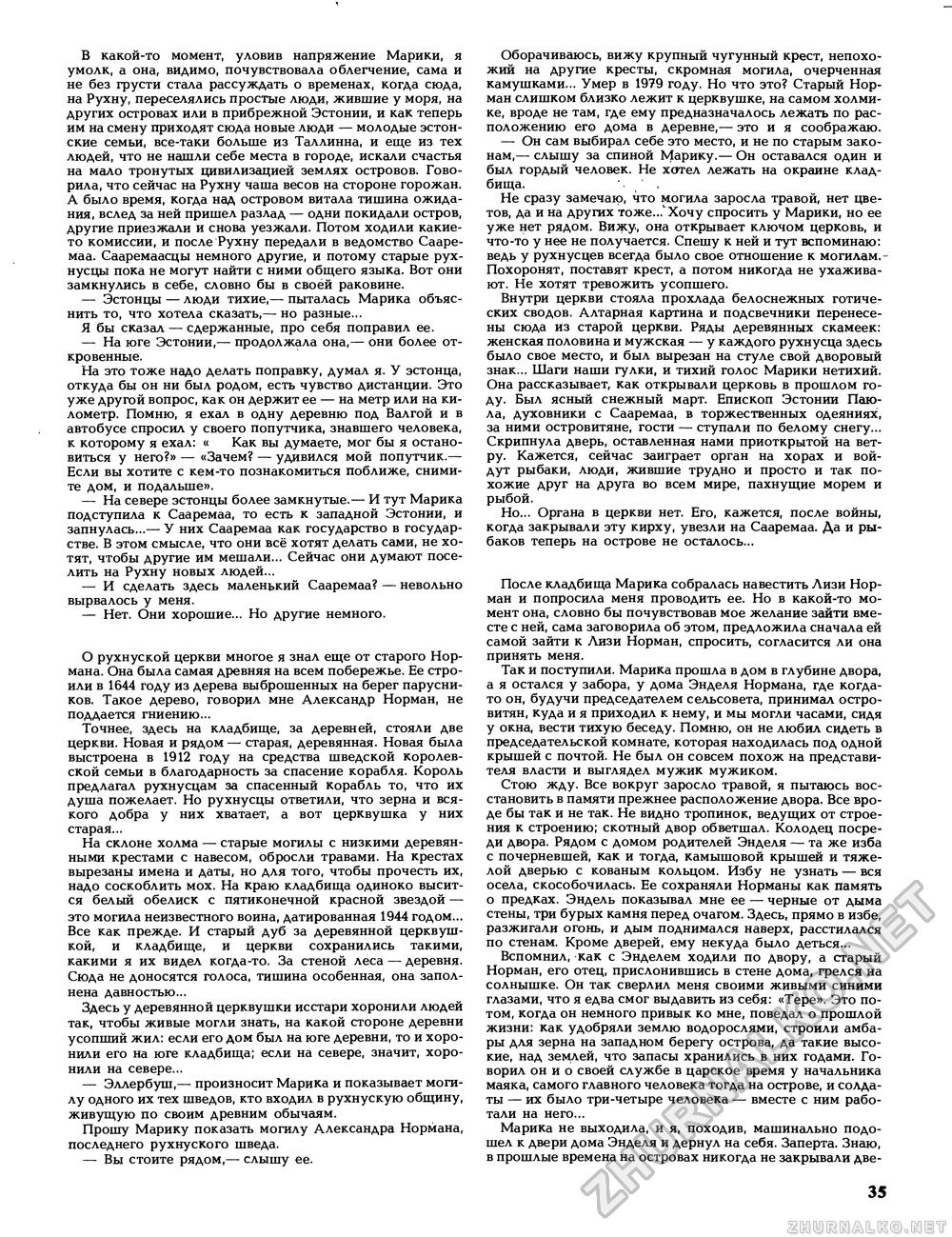
В какой-то момент, уловив напряжение Марики, я умолк, а она, видимо, почувствовала облегчение, сама и не без грусти стала рассуждать о временах, когда сюда, на Рухну, переселялись простые люди, жившие у моря, на других островах или в прибрежной Эстонии, и как теперь им на смену приходят сюда новые люди — молодые эстонские семьи, все-таки больше из Таллинна, и еще из тех людей, что не нашли себе места в городе, искали счастья на мало тронутых цивилизацией землях островов. Говорила, что сейчас на Рухну чаша весов на стороне горожан. А было время, когда над островом витала тишина ожидания, вслед за ней пришел разлад — одни покидали остров, другие приезжали и снова уезжали. Потом ходили какие-то комиссии, и после Рухну передали в ведомство Сааре-маа. Сааремаасцы немного другие, и потому старые рух-нусцы пока не могут найти с ними общего языка. Вот они замкнулись в себе, словно бы в своей раковине. — Эстонцы — люди тихие,— пыталась Марика объяснить то, что хотела сказать,— но разные... Я бы сказал — сдержанные, про себя поправил ее. — На юге Эстонии,— продолжала она,— они более откровенные. На это тоже надо делать поправку, думал я. У эстонца, откуда бы он ни был родом, есть чувство дистанции. Это уже другой вопрос, как он держит ее — на метр или на километр. Помню, я ехал в одну деревню под Валгой и в автобусе спросил у своего попутчика, знавшего человека, к которому я ехал: « Как вы думаете, мог бы я остановиться у него?» — «Зачем? — удивился мой попутчик.— Если вы хотите с кем-то познакомиться поближе, снимите дом, и подальше». — На севере эстонцы более замкнутые.— И тут Марика подступила к Сааремаа, то есть к западной Эстонии, и запнулась...— У них Сааремаа как государство в государстве. В этом смысле, что они всё хотят делать сами, не хотят, чтобы другие им мешали... Сейчас они думают поселить на Рухну новых людей... — И сделать здесь маленький Сааремаа? — невольно вырвалось у меня. — Нет. Они хорошие... Но другие немного. О рухнуской церкви многое я знал еще от старого Нормана. Она была самая древняя на всем побережье. Ее строили в 1644 году из дерева выброшенных на берег парусников. Такое дерево, говорил мне Александр Норман, не поддается гниению... Точнее, здесь на кладбище, за деревней, стояли две церкви. Новая и рядом — старая, деревянная. Новая была выстроена в 1912 году на средства шведской королевской семьи в благодарность за спасение корабля. Король предлагал рухнусцам за спасенный корабль то, что их душа пожелает. Но рухнусцы ответили, что зерна и всякого добра у них хватает, а вот церквушка у них старая... На склоне холма — старые могилы с низкими деревянными крестами с навесом, обросли травами. На крестах вырезаны имена и даты, но для того, чтобы прочесть их, надо соскоблить мох. На краю кладбища одиноко высится белый обелиск с пятиконечной красной звездой — это могила неизвестного воина, датированная 1944 годом... Все как прежде. И старый дуб за деревянной церквушкой, и кладбище, и церкви сохранились такими, какими я их видел когда-то. За стеной леса — деревня. Сюда не доносятся голоса, тишина особенная, она заполнена давностью... Здесь у деревянной церквушки исстари хоронили людей так, чтобы живые могли знать, на какой стороне деревни усопший жил: если его дом был на юге деревни, то и хоронили его на юге кладбища; если на севере, значит, хоронили на севере... — Эллербуш,— произносит Марика и показывает могилу одного их тех шведов, кто входил в рухнускую общину, живущую по своим древним обычаям. Прошу Марику показать могилу Александра Нормана, последнего рухнуского шведа. — Вы стоите рядом,— слышу ее. Оборачиваюсь, вижу крупный чугунный крест, непохожий на другие кресты, скромная могила, очерченная камушками... Умер в 1979 году. Но что это? Старый Норман слишком близко лежит к церквушке, на самом холмике, вроде не там, где ему предназначалось лежать по расположению его дома в деревне,— это и я соображаю. — Он сам выбирал себе это место, и не по старым законам,— слышу за спиной Марику.— Он оставался один и был гордый человек. Не хотел лежать на окраине кладбища. ' . Не сразу замечаю, что могила заросла травой, нет цветов, да и на других тоже..Хочу спросить у Марики, но ее уже нет рядом. Вижу, она открывает ключом церковь, и что-то у нее не получается. Спешу к ней и тут вспоминаю: ведь у рухнусцев всегда было свое отношение к могилам.-Похоронят, поставят крест, а потом никогда не ухаживают. Не хотят тревожить усопшего. Внутри церкви стояла прохлада белоснежных готических сводов. Алтарная картина и подсвечники перенесены сюда из старой церкви. Ряды деревянных скамеек: женская половина и мужская — у каждого рухнусца здесь было свое место, и был вырезан на стуле свой дворовый знак... Шаги наши гулки, и тихий голос Марики нетихий. Она рассказывает, как открывали церковь в прошлом году. Был ясный снежный март. Епископ Эстонии Паю-ла, духовники с Сааремаа, в торжественных одеяниях, за ними островитяне, гости — ступали по белому снегу... Скрипнула дверь, оставленная нами приоткрытой на ветру. Кажется, сейчас заиграет орган на хорах и войдут рыбаки, люди, жившие трудно и просто и так похожие друг на друга во всем мире, пахнущие морем и рыбой. Но... Органа в церкви нет. Его, кажется, после войны, когда закрывали эту кирху, увезли на Сааремаа. Да и рыбаков теперь на острове не осталось... После кладбища Марика собралась навестить Лизи Норман и попросила меня проводить ее. Но в какой-то момент она, словно бы почувствовав мое желание зайти вместе с ней, сама заговорила об этом, предложила сначала ей самой зайти к Лизи Норман, спросить, согласится ли она принять меня. Так и поступили. Марика прошла в дом в глубине двора, а я остался у забора, у дома Энделя Нормана, где когда-то он, будучи председателем сельсовета, принимал островитян, куда и я приходил к нему, и мы могли часами, сидя у окна, вести тихую беседу. Помню, он не любил сидеть в председательской комнате, которая находилась под одной крышей с почтой. Не был он совсем похож на представителя власти и выглядел мужик мужиком. Стою жду. Все вокруг заросло травой, я пытаюсь восстановить в памяти прежнее расположение двора. Все вроде бы так и не так. Не видно тропинок, ведущих от строения к строению; скотный двор обветшал. Колодец посреди двора. Рядом с домом родителей Энделя — та же изба с почерневшей, как и тогда, камышовой крышей и тяжелой дверью с кованым кольцом. Избу не узнать — вся осела, скособочилась. Ее сохраняли Норманы как память о предках. Эндель показывал мне ее — черные от дыма стены, три бурых камня перед очагом. Здесь, прямо в избе, разжигали огонь, и дым поднимался наверх, расстилался по стенам. Кроме дверей, ему некуда было деться... Вспомнил, как с Энделем ходили по двору, а старый Норман, его отец, прислонившись в стене дома, грелся на солнышке. Он так сверлил меня своими живыми синими глазами, что я едва смог выдавить из себя: «Тере». Это потом, когда он немного привык ко мне, поведал о прошлой жизни: как удобряли землю водорослями, строили амбары для зерна на западном берегу острова, да такие высокие, над землей, что запасы хранились в них годами. Говорил он и о своей службе в царское время у начальника маяка, самого главного человека тогда на острове, и солдаты — их было три-четыре человека — вместе с ним работали на него... Марика не выходила, и я, походив, машинально подошел к двери дома Энделя и дернул на себя. Заперта. Знаю, в прошлые времена на островах никогда не закрывали две 35 |








