Костёр 1967-12, страница 25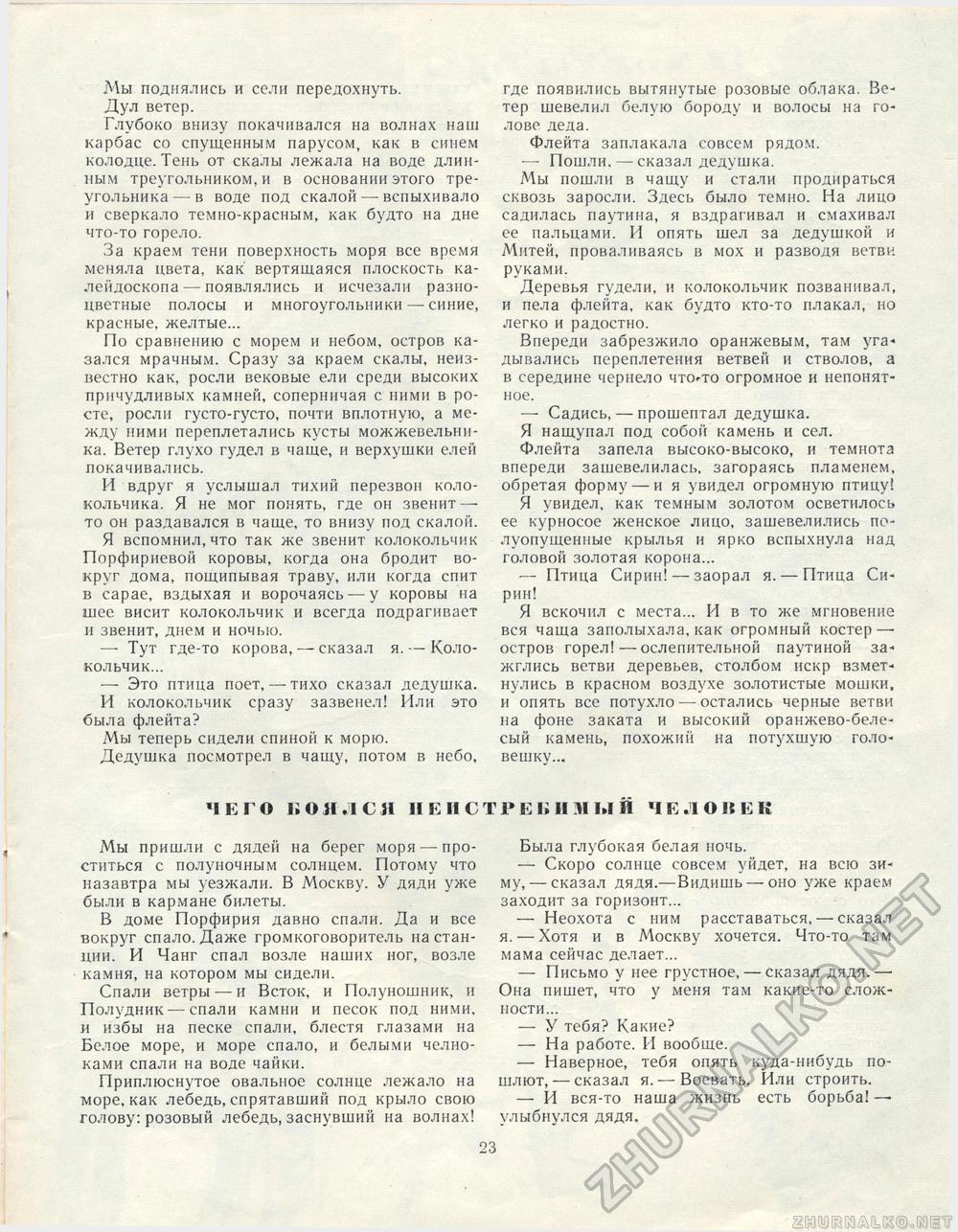
Мы поднялись и сели передохнуть. Дул ветер. Глубоко внизу покачивался на волнах наш карбас со спущенным парусом, как в синем колодце. Тень от скалы лежала на воде длинным треугольником, и в основании этого треугольника—в воде под скалой — вспыхивало и сверкало темно-красным, как будто на дне что-то горело. За краем тени поверхность моря все время меняла цвета, как вертящаяся плоскость калейдоскопа— появлялись и исчезали разноцветные полосы и многоугольники — синие, красные, желтые... По сравнению с морем и небом, остров казался мрачным. Сразу за краем скалы, неизвестно как, росли вековые ели среди высоких причудливых камней, соперничая с ними в росте, росли густо-густо, почти вплотную, а между ними переплетались кусты можжевельника. Ветер глухо гудел в чаще, и верхушки елей покачивались. И вдруг я услышал тихий перезвон колокольчика. Я не мог понять, где он звенит—-то он раздавался в чаще, то внизу под скалой. Я вспомнил, что так же звенит колокольчик Порфириевой коровы, когда она бродит вокруг дома, пощипывая траву, или когда спит в сарае, вздыхая и ворочаясь — у коровы на шее висит колокольчик и всегда подрагивает и звенит, днем и ночыо. —- Тут где-то корова, — сказал я. — Колокольчик... — Это птица поет, — тихо сказал дедушка. И колокольчик сразу зазвенел! Или это была флейта? Мы теперь сидели спиной к морю. Дедушка посмотрел в чащу, потом в небо, где появились вытянутые розовые облака. Ветер шевелил белую бороду и волосы на голове деда. Флейта заплакала совсем рядом. — Пошли, — сказал дедушка. Мы пошли в чащу и стали продираться сквозь заросли. Здесь было темно. На лицо садилась паутина, я вздрагивал и смахивал ее пальцами. И опять шел за дедушкой и Митей, проваливаясь в мох и разводя ветви руками. Деревья гудели, и колокольчик позванивал, и пела флейта, как будто кто-то плакал, но легко и радостно. Впереди забрезжило оранжевым, там угадывались переплетения ветвей и стволов, а в середине чернело что-то огромное и непонятное. — Садись, — прошептал дедушка. Я нащупал под собой камень и сел. Флейта запела высоко-высоко, и темнота впереди зашевелилась, загораясь пламенем, обретая форму — и я увидел огромную птицу! Я увидел, как темным золотом осветилось ее курносое женское лицо, зашевелились полуопущенные крылья и ярко вспыхнула над головой золотая корона... — Птица Сирин! — заорал я. — Птица Сирин! Я вскочил с места... И в то же мгновение вся чаща заполыхала, как огромный костер—• остров горел!—ослепительной паутиной зажглись ветви деревьев, столбом искр взметнулись в красном воздухе золотистые мошки, и опять все потухло — остались черные ветви на фоне заката и высокий оранжево-белесый камень, похожий на потухшую головешку... ЧЕГО Г> ОН ЛСЯ НЕИСТРЕБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК Мы пришли с дядей на берег моря — проститься с полуночным солнцем. Потому что назавтра мы уезжали. В Москву. У дяди уже были в кармане билеты. В доме Порфирия давно спали. Да и все вокруг спало. Даже громкоговоритель на станции. И Чанг спал возле наших ног, возле камня, на котором мы сидели. Спали ветры — и Веток, и Полуношник, и Полудник—спали камни и песок под ними, и избы на песке спали, блестя глазами на Белое море, и море спало, и белыми челноками спали на воде чайки. Приплюснутое овальное солнце лежало на море, как лебедь, спрятавший под крыло свою голову: розовый лебедь, заснувший на волнах! Была глубокая белая ночь. — Скоро солнце совсем уйдет, на всю зиму,— сказал дядя.—Видишь — оно уже краем заходит за горизонт... — Неохота с ним расставаться, — сказал — Хотя и в Москву хочется. Что-то там я. мама сейчас делает... — Письмо у нее грустное, — сказал дядя. Она пишет, что v меня там какие-то слож- ' т/ ности... У тебя? Какие? На работе. И вообще. Наверное, тебя опять куда-нибудь пошлют,— сказал я. — Воевать. Или строить. — И вся-то наша жизнь есть борьба! улыбнулся дядя. 23 |








