Костёр 1969-09, страница 20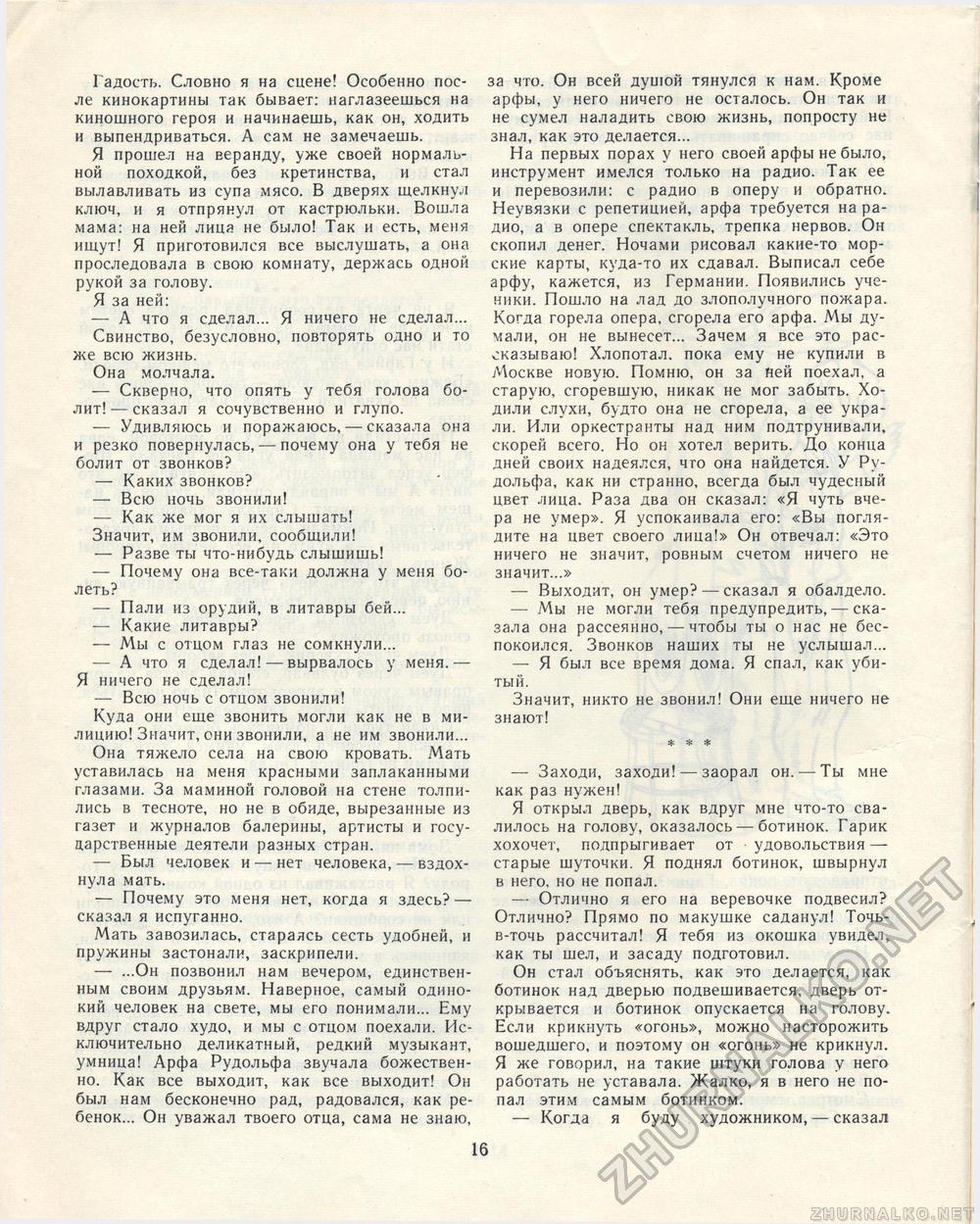
Гадость. Словно я на сцене! Особенно после кинокартины так бывает: наглазеешься на киношного героя и начинаешь, как он, ходить и выпендриваться. А сам не замечаешь. Я прошел на веранду, уже своей нормальной походкой, без кретинства, и стал вылавливать из супа мясо. В дверях щелкнул ключ, и я отпрянул от кастрюльки. Вошла мама: на ней лица не было! Так и есть, меня ищут! Я приготовился все выслушать, а она проследовала в свою комнату, держась одной рукой за голову. Я за ней: — А что я сделал... Я ничего не сделал... Свинство, безусловно, повторять одно и то же всю жизнь. Она молчала. •— Скверно, что опять у тебя голова болит!— сказал я сочувственно и глупо. — Удивляюсь и поражаюсь, — сказала она и резко повернулась, — почему она у тебя не болит от звонков? — Каких звонков? — Всю ночь звонили! — Как же мог я их слышать! Значит, им звонили, сообщили! — Разве ты что-нибудь слышишь! — Почему она все-таки должна у меня болеть? — Пали из орудий, в литавры бей... — Какие литавры? — Мы с отцом глаз не сомкнули... — А что я сделал! — вырвалось у меня.— Я ничего не сделал! — Всю ночь с отцом звонили! Куда они еще звонить могли как не в милицию! Значит, они звонили, а не им звонили... Она тяжело села на свою кровать. Мать уставилась на меня красными заплаканными глазами. За маминой головой на стене толпились в тесноте, но не в обиде, вырезанные из газет и журналов балерины, артисты и государственные деятели разных стран. — Был человек и — нет человека, — вздохнула мать. — Почему это меня нет, когда я здесь? — сказал я испуганно. Мать завозилась, стараясь сесть удобней, и пружины застонали, заскрипели. — ...Он позвонил нам вечером, единственным своим друзьям. Наверное, самый одинокий человек на свете, мы его понимали... Ему вдруг стало худо, и мы с отцом поехали. Исключительно деликатный, редкий музыкант, умница! Арфа Рудольфа звучала божественно. Как все выходит, как все выходит! Он был нам бесконечно рад, радовался, как ребенок... Он уважал твоего отца, сама не знаю, за что. Он всей душой тянулся к нам. Кроме арфы, у него ничего не осталось. Он так и не сумел наладить свою жизнь, попросту не знал, как это делается... На первых порах у него своей арфы не было, инструмент имелся только на радио. Так ее и перевозили: с радио в оперу и обратно. Неувязки с репетицией, арфа требуется на радио, а в опере спектакль, трепка нервов. Он скопил денег. Ночами рисовал какие-то морские карты, куда-то их сдавал. Выписал себе арфу, кажется, из Германии. Появились ученики. Пошло на лад до злополучного пожара. Когда горела опера, сгорела его арфа. Мы думали, он не вынесет... Зачем я все это рассказываю! Хлопотал, пока ему не купили в Москве новую. Помню, он за ней поехал, а старую, сгоревшую, никак не мог забыть. Ходили слухи, будто она не сгорела, а ее украли. Или оркестранты над ним подтрунивали, скорей всего. Но он хотел верить. До конца дней своих надеялся, что она найдется. У Рудольфа, как ни странно, всегда был чудесный цвет лица. Раза два он сказал: «Я чуть вчера не умер». Я успокаивала его: «Вы поглядите на цвет своего лица!» Он отвечал: «Это ничего не значит, ровным счетом ничего не значит...» — Выходит, он умер? — сказал я обалдело. — Мы не могли тебя предупредить, — сказала она рассеянно, — чтобы ты о нас не беспокоился. Звонков наших ты не услышал... — Я был все время дома. Я спал, как убитый. Значит, никто не звонил! Они еще ничего не знают! Sfc ?Jc — Заходи, заходи! — заорал он. — Ты мне как раз нужен! Я открыл дверь, как вдруг мне что-то свалилось на голову, оказалось — ботинок. Гарик хохочет, подпрыгивает от • удовольствия — старые шуточки. Я поднял ботинок, швырнул в него, но не попал. — Отлично я его на веревочке подвесил? Отлично? Прямо по макушке саданул! Точь-в-точь рассчитал! Я тебя из окошка увидел, как ты шел, и засаду подготовил. Он стал объяснять, как это делается, как ботинок над дверью подвешивается, дверь открывается и ботинок опускается на голову. Если крикнуть «огонь», можно насторожить вошедшего, и поэтому он «огонь» не крикнул. Я же говорил, на такие штуки голова у него работать не уставала. Жалко, я в него не попал этим самым ботинком. — Когда я буду художником, — сказал 16 |








