Костёр 1972-01, страница 25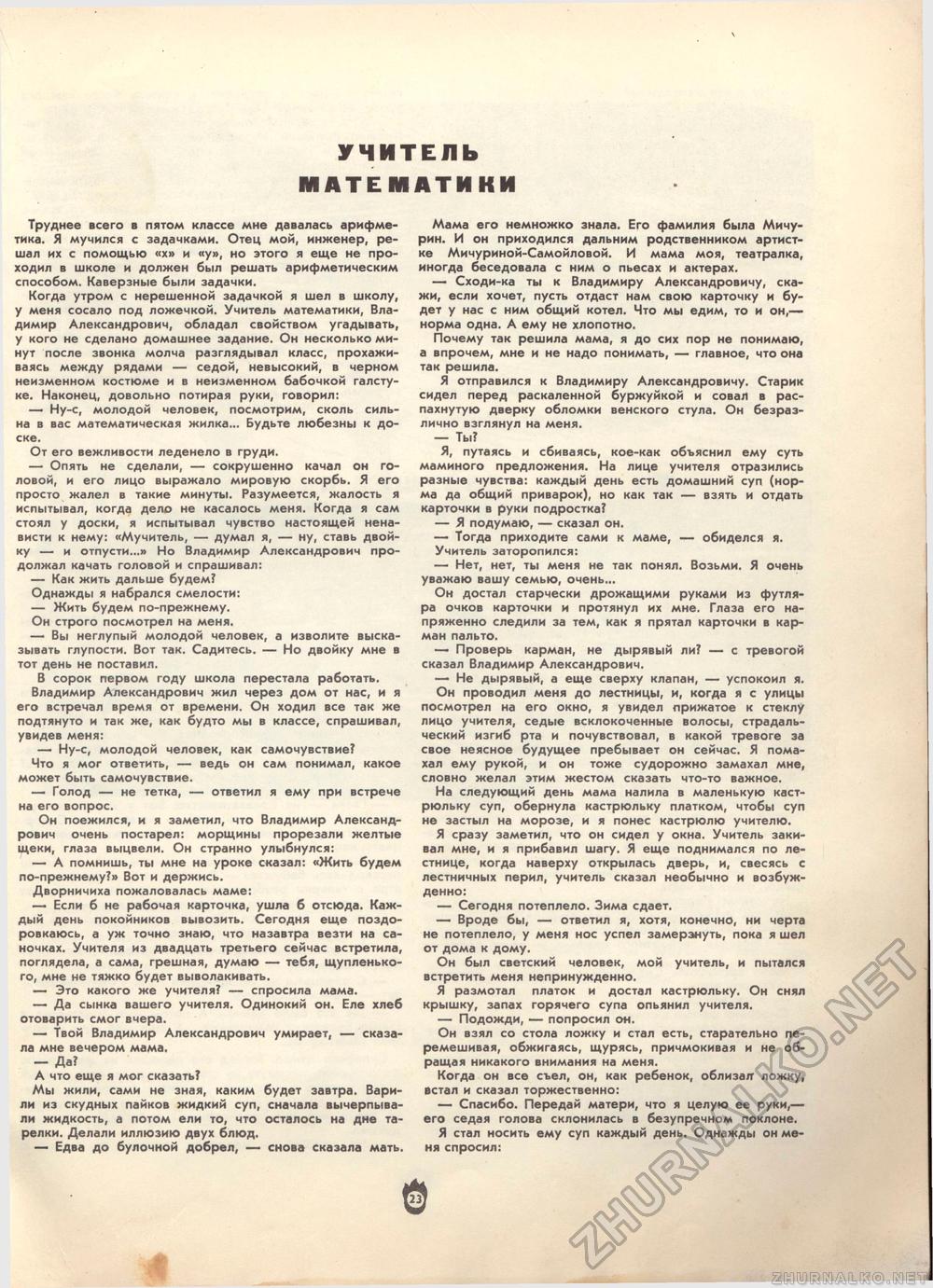
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ Труднее всего в пятом классе мне давалась арифметика. Я мучился с задачками. Отец мой, инженер, решал их с помощью «х» и «у», но этого я еще не проходил в школе и должен был решать арифметическим способом. Каверзные были задачки. Когда утром с нерешенной задачкой я шел в школу, у меня сосало под ложечкой. Учитель математики, Владимир Александрович, обладал свойством угадывать, у кого не сделано домашнее задание. Он несколько минут после звонка молча разглядывал класс, прохаживаясь между рядами — седой, невысокий, в черном неизменном костюме и в неизменном бабочкой галстуке. Наконец, довольно потирая руки, говорил: — Ну-с, молодой человек, посмотрим, сколь сильна в вас математическая жилка... Будьте любезны к доске. От его вежливости леденело в груди. — Опять не сделали, — сокрушенно качал он головой, и его лицо выражало мировую скорбь. Я его просто жалел в такие минуты. Разумеется, жалость я испытывал, когда дело не касалось меня. Когда я сам стоял у доски, я испытывал чувство настоящей ненависти к нему: «Мучитель, — думал я, — ну, ставь двойку — и отпусти...» Но Владимир Александрович продолжал качать головой и спрашивал: — Как жить дальше будем? Однажды я набрался смелости: — Жить будем по-прежнему. Он строго посмотрел на меня. — Вы неглупый молодой человек, а изволите высказывать глупости. Вот так. Садитесь. — Но двойку мне в тот день не поставил. В сорок первом году школа перестала работать. Владимир Александрович жил через дом от нас, и я его встречал время от времени. Он ходил все так же подтянуто и так же, как будто мы в классе, спрашивал, увидев меня: — Ну-с, молодой человек, как самочувствие? Что я мог ответить, — ведь он сам понимал, какое может быть самочувствие. — Голод — не тетка, — ответил я ему при встрече на его вопрос. Он поежился, и я заметил, что Владимир Александрович очень постарел: морщины прорезали желтые щеки, глаза выцвели. Он странно улыбнулся: — А помнишь, ты мне на уроке сказал: «Жить будем по-прежнему?» Вот и держись. Дворничиха пожаловалась маме: — Если б не рабочая карточка, ушла б отсюда. Каждый день покойников вывозить. Сегодня еще поздоровкаюсь, а уж точно знаю, что назавтра везти на саночках. Учителя из двадцать третьего сейчас встретила, поглядела, а сама, грешная, думаю — тебя, щупленько-го, мне не тяжко будет выволакивать. — Это какого же учителя? — спросила мама. — Да сынка вашего учителя. Одинокий он. Еле хлеб отоварить смог вчера. — Твой Владимир Александрович умирает, — сказала мне вечером мама. — Да? А что еще я мог сказать? Мы жили, сами не зная, каким будет завтра. Варили из скудных пайков жидкий суп, сначала вычерпывали жидкость, а потом ели то, что осталось на дне тарелки. Делали иллюзию двух блюд. — Едва до булочной добрел, — снова сказала мать. Мама его немножко знала. Его фамилия была Мичурин. И он приходился дальним родственником артистке Мичуриной-Самойловой. И мама моя, театралка, иногда беседовала с ним о пьесах и актерах. — Сходи-ка ты к Владимиру Александровичу, скажи, если хочет, пусть отдаст нам свою карточку и будет у нас с ним общий котел. Что мы едим, то и он,— норма одна. А ему не хлопотно. Почему так решила мама, я до сих пор не понимаю, а впрочем, мне и не надо понимать, — главное, что она так решила. Я отправился к Владимиру Александровичу. Старик сидел перед раскаленной буржуйкой и совал в распахнутую дверку обломки венского стула. Он безразлично взглянул на меня. — Ты? Я, путаясь и сбиваясь, кое-как объяснил ему суть маминого предложения. На лице учителя отразились разные чувства: каждый день есть домашний суп (норма да общий приварок), но как так — взять и отдать карточки в руки подростка? — Я подумаю, — сказал он. — Тогда приходите сами к маме, — обиделся я. Учитель заторопился: — Нет, нет, ты меня не так понял. Возьми. Я очень уважаю вашу семью, очень... Он достал старчески дрожащими руками из футляра очков карточки и протянул их мне. Глаза его напряженно следили за тем, как я прятал карточки в карман пальто. — Проверь карман, не дырявый ли? — с тревогой сказал Владимир Александрович. — Не дырявый, а еще сверху клапан, — успокоил я. Он проводил меня до лестницы, и, когда я с улицы посмотрел на его окно, я увидел прижатое к стеклу лицо учителя, седые всклокоченные волосы, страдальческий изгиб рта и почувствовал, в какой тревоге за свое неясное будущее пребывает он сейчас. Я помахал ему рукой, и он тоже судорожно замахал мне, словно желал этим жестом сказать что-то важное. На следующий день мама налила в маленькую кастрюльку суп, обернула кастрюльку платком, чтобы суп не застыл на морозе, и я понес кастрюлю учителю. Я сразу заметил, что он сидел у окна. Учитель закивал мне, и я прибавил шагу. Я еще поднимался по лестнице, когда наверху открылась дверь, и, свесясь с лестничных перил, учитель сказал необычно и возбужденно: — Сегодня потеплело. Зима сдает. — Вроде бы, — ответил я, хотя, конечно, ни черта не потеплело, у меня нос успел замерзнуть, пока я шел от дома к дому. Он был светский человек, мой учитель, и пытался встретить меня непринужденно. Я размотал платок и достал кастрюльку. Он снял крышку, запах горячего супа опьянил учителя. — Подожди, — попросил он. Он взял со стола ложку и стал есть, старательно перемешивая, обжигаясь, щурясь, причмокивая и не обращая никакого внимания на меня. Когда он все съел, он, как ребенок, облизал ложку, встал и сказал торжественно: — Спасибо. Передай матери, что я целую ее руки,— его седая голова склонилась в безупречном поклоне. Я стал носить ему суп каждый день. Однажды он меня спросил: © |








