Костёр 1972-01, страница 26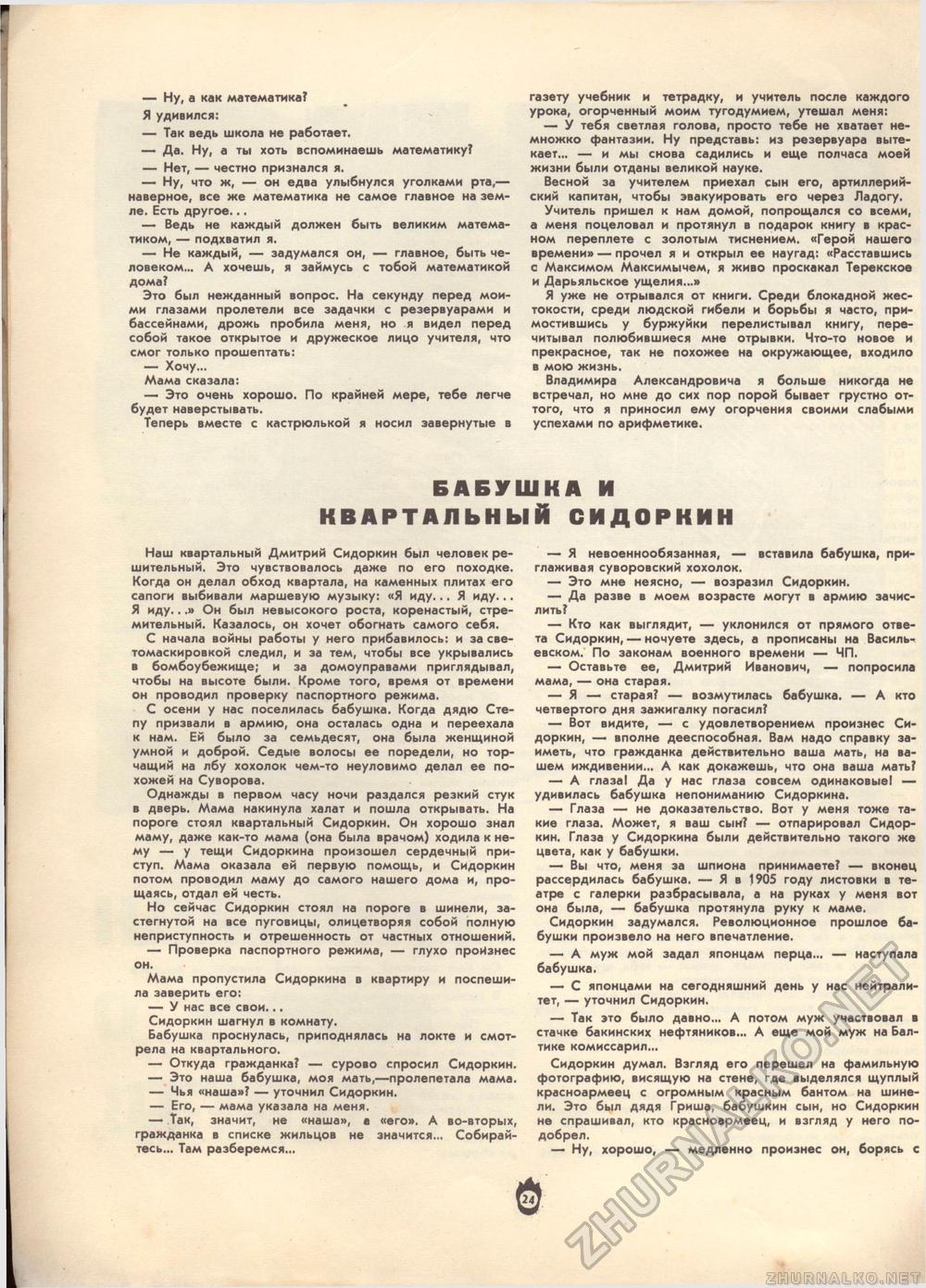
— Ну, а как математика? Я удивился: — Так ведь школа не работает. — Да. Ну, а ты хоть вспоминаешь математику? — Нет, — честно признался я. — Ну, что ж, — он едва улыбнулся уголками рта,— наверное, все же математика не самое главное на земле. Есть другое... — Ведь не каждый должен быть великим математиком, — подхватил я. — Не каждый, — задумался он, — главное, быть человеком... А хочешь, я займусь с тобой математикой дома? Это был нежданный вопрос. На секунду перед моими глазами пролетели все задачки с резервуарами и бассейнами, дрожь пробила меня, но я видел перед собой такое открытое и дружеское лицо учителя, что смог только прошептать: — Хочу... Мама сказала: — Это очень хорошо. По крайней мере, тебе легче будет наверстывать. Теперь вместе с кастрюлькой я носил завернутые в газету учебник и тетрадку, и учитель после каждого урока, огорченный моим тугодумием, утешал меня: — У тебя светлая голова, просто тебе не хватает немножко фантазии. Ну представь: из резервуара вытекает... — и мы снова садились и еще полчаса моей жизни были отданы великой науке. Весной за учителем приехал сын его, артиллерийский капитан, чтобы эвакуировать его через Ладогу. Учитель пришел к нам домой, попрощался со всеми, а меня поцеловал и протянул в подарок книгу в красном переплете с золотым тиснением. «Герой нашего времени» — прочел я и открыл ее наугад: «Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелия...» Я уже не отрывался от книги. Среди блокадной жестокости, среди людской гибели и борьбы я часто, примостившись у буржуйки перелистывал книгу, перечитывал полюбившиеся мне отрывки. Что-то новое и прекрасное, так не похожее на окружающее, входило в мою жизнь. Владимира Александровича я больше никогда не встречал, но мне до сих пор порой бывает грустно оттого, что я приносил ему огорчения своими слабыми успехами по арифметике. БАБУШКА И КВАРТАЛЬНЫЙ СИДОРКИН Наш квартальный Дмитрий Сидоркин был человек решительный. Это чувствовалось даже по его походке. Когда он делал обход квартала, на каменных плитах его сапоги выбивали маршевую музыку: «Я иду... Я иду... Я иду...» Он был невысокого роста, коренастый, стремительный. Казалось, он хочет обогнать самого себя. С начала войны работы у него прибавилось: и за светомаскировкой следил, и за тем, чтобы все укрывались в бомбоубежище; и за домоуправами приглядывал, чтобы на высоте были. Кроме того, время от времени он проводил проверку паспортного режима. С осени у нас поселилась бабушка. Когда дядю Степу призвали в армию, она осталась одна и переехала к нам. Ей было за семьдесят, она была женщиной умной и доброй. Седые волосы ее поредели, но торчащий на лбу хохолок чем-то неуловимо делал ее похожей на Суворова. Однажды в первом часу ночи раздался резкий стук в дверь. Мама накинула халат и пошла открывать. На пороге стоял квартальный Сидоркин. Он хорошо знал маму, даже как-то мама (она была врачом) ходила к не-му — у тещи Сидоркина произошел сердечный приступ. Мама оказала ей первую помощь, и Сидоркин потом проводил маму до самого нашего дома и, прощаясь, отдал ей честь. Но сейчас Сидоркин стоял на пороге в шинели, застегнутой на все пуговицы, олицетворяя собой полную неприступность и отрешенность от частных отношений. — Проверка паспортного режима, — глухо произнес он. Мама пропустила Сидоркина в квартиру и поспешила заверить его: — У нас все свои... Сидоркин шагнул в комнату. Бабушка проснулась, приподнялась на локте и смотрела на квартального. — Откуда гражданка? — сурово спросил Сидоркин. — Это наша бабушка, моя мать,—пролепетала мама. — Чья «наша»? — уточнил Сидоркин. — Его, — мама указала на меня. — Так, значит, не «наша», а «его». А во-вторых, гражданка в списке жильцов не значится... Собирайтесь... Там разберемся... — Я невоеннообязанная, — вставила бабушка, приглаживая суворовский хохолок. — Это мне неясно, — возразил Сидоркин. — Да разве в моем возрасте могут в армию зачислить? — Кто как выглядит, — уклонился от прямого ответа Сидоркин, — ночуете здесь, а прописаны на Васильевском. По законам военного времени — ЧП. — Оставьте ее, Дмитрий Иванович, — попросила мама, — она старая. — Я — старая? — возмутилась бабушка. — А кто четвертого дня зажигалку погасил? — Вот видите, — с удовлетворением произнес Сидоркин, — вполне дееспособная. Вам надо справку заиметь, что гражданка действительно ваша мать, на вашем иждивении... А как докажешь, что она ваша мать? — А глаза! Да у нас глаза совсем одинаковые! — удивилась бабушка непониманию Сидоркина. — Глаза — не доказательство. Вот у меня тоже такие глаза. Может, я ваш сык? — отпарировал Сидоркин. Глаза у Сидоркина были действительно такого же цвета, как у бабушки. — Вы что, меня за шпиона принимаете? — вконец рассердилась бабушка. — Я в 1905 году листовки в театре с галерки разбрасывала, а на руках у меня вот она была, — бабушка протянула руку к маме. Сидоркин задумался. Революционное прошлое бабушки произвело на него впечатление. — А муж мой задал японцам перца... — наступала бабушка. — С японцами на сегодняшний день у нас нейтралитет, — уточнил Сидоркин. — Так это было давно... А потом муж участвовал в стачке бакинских нефтяников... А еще мой муж на Балтике комиссарил... Сидоркин думал. Взгляд его перешел на фамильную фотографию, висящую на стене, где выделялся щуплый красноармеец с огромным красным бантом на шинели. Это был дядя Гриша, бабушкин сын, но Сидоркин не спрашивал, кто красноармеец, и взгляд у него подобрел. — Ну, хорошо, — медленно произнес он, борясь с |








