Костёр 1982-06, страница 11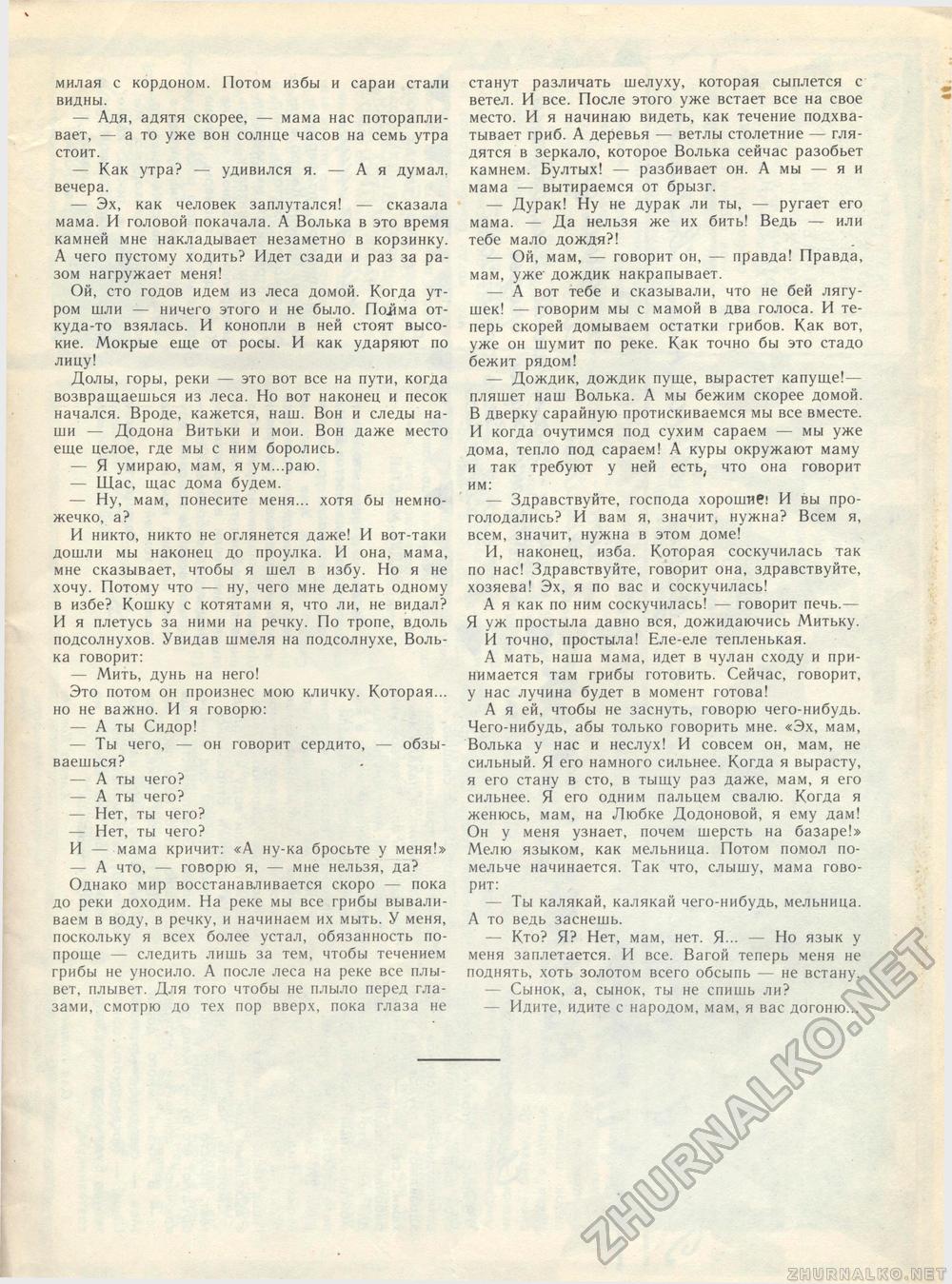
милая с кордоном. Потом избы и сараи стали видны. — Адя, адятя скорее, — мама нас поторапливает, — а то уже вон солнце часов на семь утра стоит. — Как утра? — удивился я. — А я думал, вечера. — Эх, как человек заплутался! — сказала мама. И головой покачала. А Волька в это время камней мне накладывает незаметно в корзинку. А чего пустому ходить? Идет сзади и раз за разом нагружает меня! Ой, сто годов идем из леса домой. Когда утром шли — ничего этого и не было. По^ма откуда-то взялась. И конопли в ней стоят высокие. Мокрые еще от росы. И как ударяют по лицу! Долы, горы, реки — это вот все на пути, когда возвращаешься из леса. Но вот наконец и песок начался. Вроде, кажется, наш. Вон и следы наши — Додона Витьки и мои. Вон даже место еще целое, где мы с ним боролись. — Я умираю, мам, я ум...раю. — Щас, щас дома будем. — Ну, мам, понесите меня... хотя бы немножечко, а? И никто, никто не оглянется даже! И вот-таки дошли мы наконец до проулка. И она, мама, мне сказывает, чтобы я шел в избу. Но я не хочу. Потому что — ну, чего мне делать одному в избе? Кошку с котятами я, что ли, не видал? И я плетусь за ними на речку. По тропе, вдоль подсолнухов. Увидав шмеля на подсолнухе, Волька говорит: — Мить, дунь на него! Это потом он произнес мою кличку. Которая... но не важно. И я говорю: — А ты Сидор! — Ты чего, — он говорит сердито, — обзываешься? — А ты чего? — А ты чего? — Нет, ты чего? — Нет, ты чего? И — мама кричит: «А ну-ка бросьте у меня!» — А что, — говорю я, — мне нельзя, да? Однако мир восстанавливается скоро — пока до реки доходим. На реке мы все грибы вываливаем в воду, в речку, и начинаем их мыть. У меня, поскольку я всех более устал, обязанность попроще — следить лишь за тем, чтобы течением грибы не уносило. А после леса на реке все плывет, плывет. Для того чтобы не плыло перед глазами, смотрю до тех пор вверх, пока глаза не станут различать шелуху, которая сыплется с ветел. И все. После этого уже встает все на свое место. И я начинаю видеть, как течение подхватывает гриб. А деревья — ветлы столетние — глядятся в зеркало, которое Волька сейчас разобьет камнем. Бултых! — разбивает он. А мы — я и мама — вытираемся от брызг. — Дурак! Ну не дурак ли ты, — ругает его мама. — Да нельзя же их бить! Ведь — или тебе мало дождя?! — Ой, мам, — говорит он, — правда! Правда, мам, уже' дождик накрапывает. — А вот тебе и сказывали, что не бей лягушек! — говорим мы с мамой в два голоса. И теперь скорей домываем остатки грибов. Как вот, уже он шумит по реке. Как точно бы это стадо бежит рядом! — Дождик, дождик пуще, вырастет капуще!— пляшет наш Волька. А мы бежим скорее домой. В дверку сарайную протискиваемся мы все вместе. И когда очутимся под сухим сараем — мы уже дома, тепло под сараем! А куры окружают маму и так требуют у ней есть; что она говорит им: — Здравствуйте, господа хорошие.' И вы проголодались? И вам я, значит, нужна? Всем я, всем, значит, нужна в этом доме! И, наконец, изба. Которая соскучилась так по нас! Здравствуйте, говорит она, здравствуйте, хозяева! Эх, я по вас и соскучилась! А я как по ним соскучилась! — говорит печь.— Я уж простыла давно вся, дожидаючись Митьку. И точно, простыла! Еле-еле тепленькая. А мать, наша мама, идет в чулан сходу и принимается там грибы готовить. Сейчас, говорит, у нас лучина будет в момент готова! А я ей, чтобы не заснуть, говорю чего-нибудь. Чего-нибудь, абы только говорить мне. «Эх, мам, Волька у нас и неслух! И совсем он, мам, не сильный. Я его намного сильнее. Когда я вырасту, я его стану в сто, в тыщу раз даже, мам, я его сильнее. Я его одним пальцем свалю. Когда я женюсь, мам, на Любке Додоновой, я ему дам! Он у меня узнает, почем шерсть на базаре!» Мелю языком, как мельница. Потом помол помельче начинается. Так что, слышу, мама говорит: — Ты калякай, калякай чего-нибудь, мельница. А то ведь заснешь. — Кто? Я? Нет, мам, нет. Я... — Но язык у меня заплетается. И все. Вагой теперь меня не поднять, хоть золотом всего обсыпь — не встану. — Сынок, а, сынок, ты не спишь ли? — Идите, идите с народом, мам, я вас догоню... |








