Костёр 1984-01, страница 11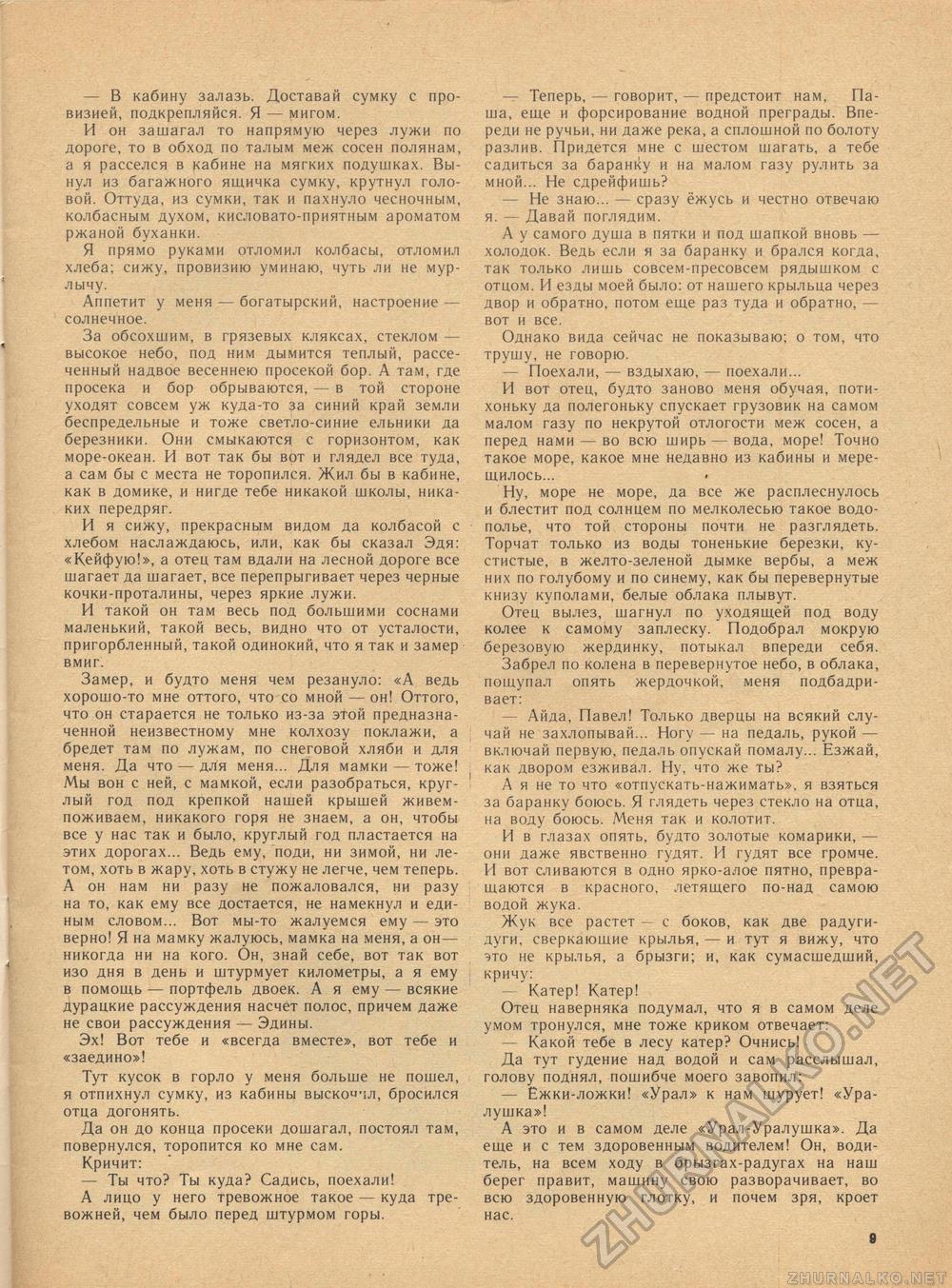
ф — В кабину залазь. Доставай сумку с провизией, подкрепляйся. Я — мигом. И он зашагал то напрямую через лужи по дороге, то в обход по талым меж сосен полянам, а я расселся в кабине на мягких подушках. Вынул из багажного ящичка сумку, крутнул головой. Оттуда, из сумки, так и пахнуло чесночным, колбасным духом, кисловато-приятным ароматом ржаной буханки. Я прямо руками отломил колбасы, отломил хлеба; сижу, провизию уминаю, чуть* ли не мурлычу. Аппетит у меня — богатырский, настроение — солнечное. За обсохшим, в грязевых кляксах, стеклом — Теперь, — говорит, — предстоит нам, Паша, еще и форсирование водной преграды. Впереди не ручьи, ни даже река, а сплошной по болоту разлив. Придется мне с шестом шагать, а тебе садиться за баранку и на малом газу рулить за мной... Не сдрейфишь? — Не знаю... — сразу ёжусь и честно отвечаю я. — Давай поглядим. А у самого душа в пятки и под шапкой вновь — высокое небо, под ним дымится теплый, рассеченный надвое весеннею просекой бор. А там, где просека и бор обрываются, — в той стороне холодок. Ведь если я за баранку и брался когда, так только лишь совсем-пресовсем рядышком с отцом. И езды моей было: от нашего крыльца через двор и обратно, потом еще раз туда и обратно, — вот и все. Однако вида сейчас не показываю; о том, что трушу, не говорю. — Поехали, — вздыхаю, — поехали... И вот отец, будто заново меня обучая, потихоньку да полегоньку спускает грузовик на самом малом газу по некрутой отлогости меж сосен, а перед нами — во всю ширь — вода, море! Точно такое море, какое мне недавно из кабины и мерещилось... Ну, море не море, да все же расплеснулось и блестит под солнцем по мелколесью такое водополье, что той стороны почти не разглядеть. Торчат только из воды тоненькие березки, кустистые, в желто-зеленой дымке вербы, а меж них по голубому и по синему, как бы перевернутые книзу куполами, белые облака плывут. Отец вылез, шагнул по уходящей под воду колее к самому заплеску. Подобрал мокрую березовую жердинку, потыкал впереди себя. Забрел по колена в перевернутое небо, в облака, пощупал опять жердочкой, меня подбадривает: — Айда, Павел! Только дверцы на всякий случай не захлопывай... Ногу — на педаль, рукой включай первую, педаль опускай помалу... Езжай, как двором езживал. Ну, что же ты? А я не то что «отпускать-нажимать», я взяться за баранку боюсь. Я глядеть через стекло на отца, на воду боюсь. Меня так и колотит. И в глазах опять, будто золотые комарики,— они даже явственно гудят. И гудят все громче. И вот сливаются в одно ярко-алое пятно, превращаются в красного, летящего по-над самою водой жука. Жук все растет с боков, как две радуги-дуги, сверкающие крылья, — и тут я вижу, что никогда ни на кого. Он, знай себе, вот так вот это не крылья, а брызги; и, как сумасшедший, I кричу: — Катер! Катер! Отец наверняка подумал, что я в самом деле уходят совсем уж куда-то за синии край земли беспредельные и тоже светло-синие ельники да березники. Они смыкаются с горизонтом, как море-океан. И вот так бы вот и глядел все туда, а сам бы с места не торопился. Жил бы в кабине, как в домике, и нигде тебе никакой школы, никаких передряг. И я сижу, прекрасным видом да колбасой с хлебом наслаждаюсь, или, как бы сказал Эдя: «Кейфую!», а отец там вдали на лесной дороге все шагает да шагает, все перепрыгивает через черные кочки-проталины, через яркие лужи. И такой он там весь под большими соснами маленький, такой весь, видно что от усталости, пригорбленный, такой одинокий, что я так и замер вмиг. Замер, и будто меня чем резануло: «А ведь хорошо-то мне оттого, что со мной — он! Оттого, что он старается не только из-за этой предназначенной неизвестному мне колхозу поклажи, а бредет там по лужам, по снеговой хляби и для меня. Да что — для меня... Для мамки — тоже! Мы вон с ней, с мамкой, если разобраться, круглый год под крепкой нашей крышей живем-поживаем, никакого горя не знаем, а он, чтобы все у нас так и было, круглый год пластается на этих дорогах... Ведь ему, поди, ни зимой, ни летом, хоть в жару, хоть в стужу не легче, чем теперь. А он нам ни разу не пожаловался, ни разу на то, как ему все достается, не намекнул и единым словом... Вот мы-то жалуемся ему — это верно! Я на мамку жалуюсь, мамка на меня, а он— изо дня в день и штурмует километры, а я ему в помощь — портфель двоек. А я ему — всякие дурацкие рассуждения насчет полос, причем даже не свои рассуждения — Эдины. Эх! Вот тебе и «всегда вместе», вот тебе и «заедино»! Тут кусок в горло у меня больше не пошел, я отпихнул сумку, из кабины выско^чл, бросился отца догонять. Да он до конца просеки дошагал, постоял там, повернулся, торопится ко мне сам. Кричит: — Ты что? Ты куда? Садись, поехали! А лицо у него тревожное такое — куда тревожней, чем было перед штурмом горы. умом тронулся, мне тоже криком отвечает: — Какой тебе в лесу катер? Очнись! Да тут гудение над водой и сам расслышал, голову поднял, пошибче моего завопил: — Ежки-ложки! «Урал» к нам шурует! «Ура-лушка»! А это и в самом деле «Урал-Уралушка». Да еще и с тем здоровенным водителем! Он, водитель, на всем ходу в брызгах-радугах на наш берег правит, машину свою разворачивает, во всю здоровенную глотку, и почем зря, кроет нас. 9 |








