Костёр 1990-06, страница 25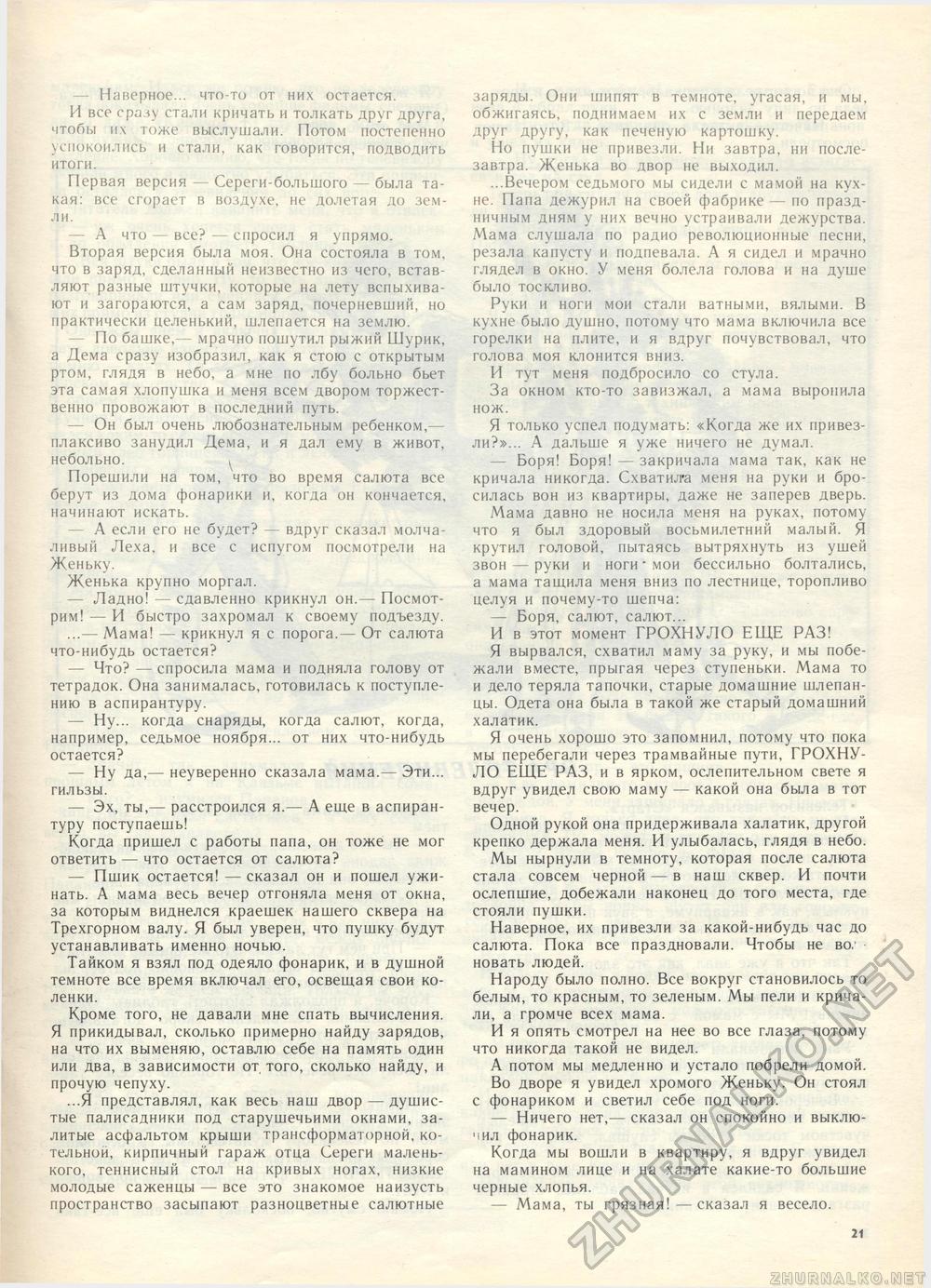
— Наверное... что-то от них остается. И все сразу стали кричать и толкать друг друга, чтобы их тоже выслушали. Потом постепенно успокоились и стали, как говорится, подводить итоги. Первая версия — Сереги-болыиого — была такая: все сгорает в воздухе, не долетая до земли. — А что — все? — спросил я упрямо. Вторая версия была моя. Она состояла в том, что в заряд, сделанный неизвестно из чего, вставляют разные штучки, которые на лету вспыхивают и загораются, а сам заряд, почерневший, но практически целенький, шлепается на землю. — По башке,— мрачно пошутил рыжий Шурик, а Дема сразу изобразил, как я стою с открытым ртом, глядя в небо, а мне по лбу больно бьет эта самая хлопушка и меня всем двором торжественно провожают в последний путь. — Он был очень любознательным ребенком,— плаксиво занудил Дема, и я дал ему в живот, небольно. * Порешили на том, что во время салюта все берут из дома фонарики и, когда он кончается, начинают искать. — А если его не будет? — вдруг сказал молчаливый Леха, и все с испугом посмотрели на Женьку. Женька крупно моргал. — Ладно! — сдавленно крикнул он.— Посмотрим! — И быстро захромал к своему подъезду. ...— Мама! — крикнул я с порога.— От салюта что-нибудь остается? — Что? — спросила мама и подняла голову от тетрадок. Она занималась, готовилась к поступлению в аспирантуру. — Ну... когда снаряды, когда салют, когда, например, седьмое ноября... от них что-нибудь остается? — Ну да,— неуверенно сказала мама.— Эти... гильзы. — Эх, ты,— расстроился я.— А еще в аспирантуру поступаешь! Когда пришел с работы папа, он тоже не мог ответить — что остается от салюта? — Пшик остается! — сказал он и пошел ужинать. А мама весь вечер отгоняла меня от окна, за которым виднелся краешек нашего сквера на Трехгорном валу. Я был уверен, что пушку будут устанавливать именно ночью. Тайком я взял под одеяло фонарик, и в душной темноте все время включал его, освещая свои коленки. Кроме того, не давали мне спать вычисления. Я прикидывал, сколько примерно найду зарядов, на что их выменяю, оставлю себе на память один или два, в зависимости от того, сколько найду, и прочую чепуху. ...Я представлял, как весь наш двор — душистые палисадники под старушечьими окнами, залитые асфальтом крыши трансформаторной, котельной, кирпичный гараж отца Сереги маленького, теннисный стол на кривых ногах, низкие молодые саженцы — все это знакомое наизусть пространство засыпают разноцветные салютные заряды. Они шипят в темноте, угасая, и мы, обжигаясь, поднимаем их с земли и передаем друг другу, как печеную картошку. Но пушки не привезли. Ни завтра, ни послезавтра. Женька во двор не выходил. ...Вечером седьмого мы сидели с мамой на кухне. Папа дежурил на своей фабрике — по праздничным дням у них вечно устраивали дежурства. Мама слушала по радио революционные песни, резала капусту и подпевала. А я сидел и мрачно глядел в окно. У меня болела голова и на душе было тоскливо. Руки и ноги мои стали ватными, вялыми. В кухне было душно, потому что мама включила все горелки на плите, и я вдруг почувствовал, что голова моя клонится вниз. И тут меня подбросило со стула. За окном кто-то завизжал* а мама выронила нож. Я только успел подумать: «Когда же их привезли?»... А дальше я уже ничего не думал. — Боря! Боря! — закричала мама так, как не кричала никогда. Схватил'а меня на руки и бросилась вон из квартиры, даже не заперев дверь. Мама давно не носила меня на руках, потому что я был здоровый восьмилетний малый. Я крутил головой, пытаясь вытряхнуть из ушей звон — руки и ноги * мои бессильно болтались, а мама тащила меня вниз по лестнице, торопливо целуя и почему-то шепча: — Боря, салют, салют... И в этот момент ГРОХНУЛО ЕЩЕ РАЗ! Я вырвался, схватил маму за руку, и мы побежали вместе, прыгая через ступеньки. Мама то и дело теряла тапочки, старые домашние шлепанцы. Одета она была в такой же старый домашний халатик. Я очень хорошо это запомнил, потому что пока мы перебегали через трамвайные пути, ГРОХНУЛО ЕЩЕ РАЗ, и в ярком, ослепительном свете я вдруг увидел свою маму — какой она была в тот вечер. Одной рукой она придерживала халатик, другой крепко держала меня. И улыбалась, глядя в небо. Мы нырнули в темноту, которая после салюта стала совсем черной — в наш сквер. И почти ослепшие, добежали наконец до того места, где стояли пушки. Наверное, их привезли за какой-нибудь час до салюта. Пока все праздновали. Чтобы не во; • новать людей. Народу было полно. Все вокруг становилось то белым, то красным, то зеленым. Мы пели и кричали, а громче всех мама. И я опять смотрел на нее во все глаза, потому что никогда такой не видел. А потом мы медленно и устало побрели домой. Во дворе я увидел хромого Женьку. Он стоял с фонариком и светил себе под ноги. — Ничего нет,— сказал он спокойно и выключил фонарик. Когда мы вошли в квартиру, я вдруг увидел на мамином лице и на халате какие-то большие черные хлопья. — Мама, ты грязная!—сказал я весело. 21 |








