Костёр 1990-10, страница 11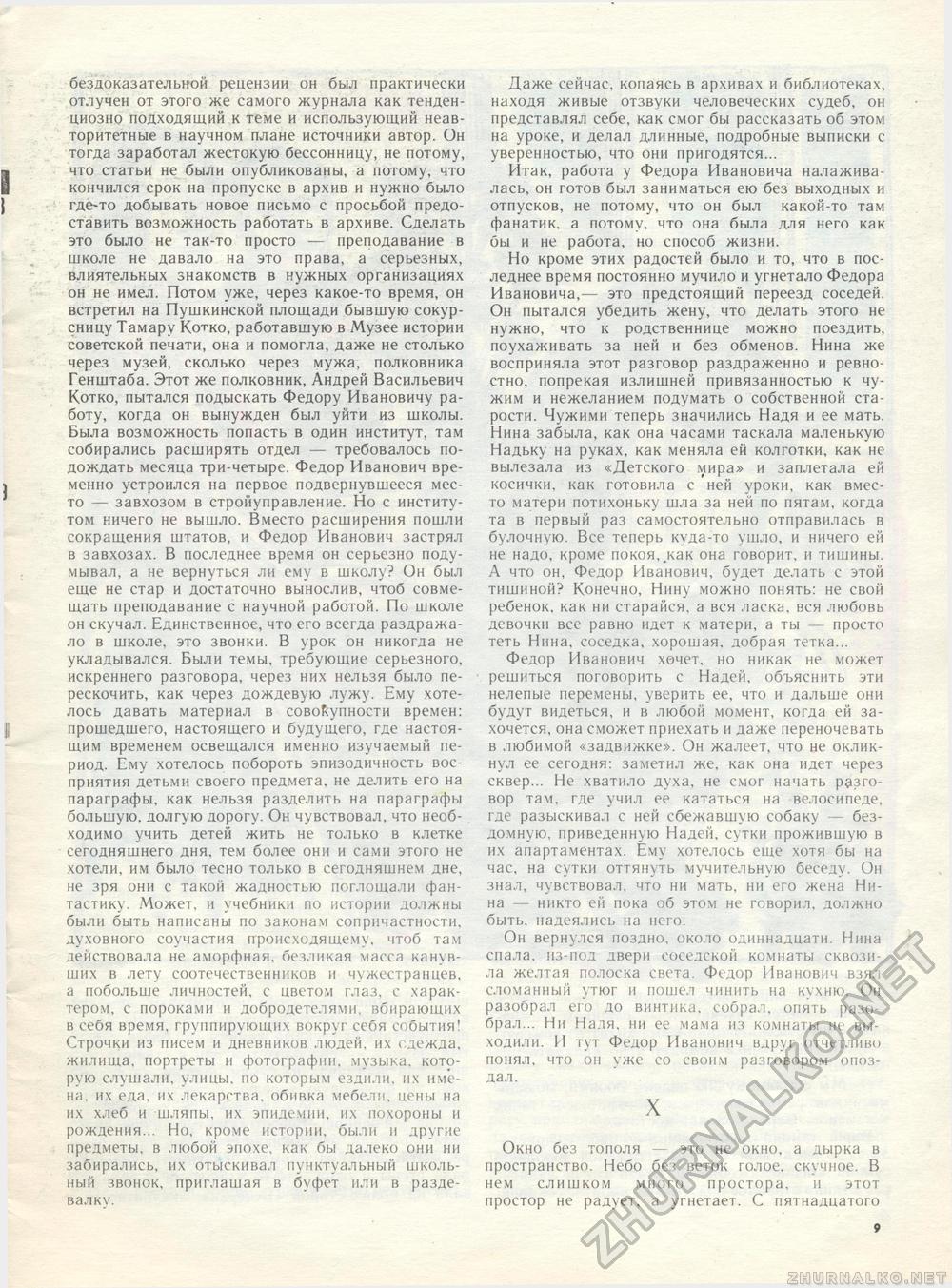
бездоказательной рецензии он был практически отлучен от этого же самого журнала как тенденциозно подходящий к теме и использующий неавторитетные в научном плане источники автор. Он тогда заработал жестокую бессонницу, не потому, что статьи не были опубликованы, а потому, что кончился срок на пропуске в архив и нужно было где-то добывать новое письмо с просьбой предоставить возможность работать в архиве. Сделать это было не так-то просто — преподавание в школе не давало на это права, а серьезных, влиятельных знакомств в нужных организациях он не имел. Потом уже, через какое-то время, он встретил на Пушкинской площади бывшую сокурсницу Тамару Котко, работавшую в Музее истории советской печати, она и помогла, даже не столько через музей, сколько через мужа, полковника Генштаба. Этот же полковник, Андрей Васильевич Котко, пытался подыскать Федору Ивановичу работу, когда он вынужден был уйти из школы. Была возможность попасть в один институт, там собирались расширять отдел — требовалось подождать месяца три-четыре. Федор Иванович временно устроился на первое подвернувшееся место — завхозом в стройуправление. Но с институтом ничего не вышло. Вместо расширения пошли сокращения штатов, и Федор Иванович застрял в завхозах. В последнее время он серьезно подумывал, а не вернуться ли ему в школу? Он был еще не стар и достаточно вынослив, чтоб совмещать преподавание с научной работой. По школе он скучал. Единственное, что его всегда раздражало в школе, это звонки. В урок он никогда не укладывался. Были темы, требующие серьезного, искреннего разговора, через них нельзя было перескочить, как через дождевую лужу. Ему хотелось давать материал в совокупности времен: прошедшего, настоящего и будущего, где настоя- о щим временем освещался именно изучаемый период. Ему хотелось побороть эпизодичность восприятия детьми своего предмета, не делить его на параграфы, как нельзя разделить на параграфы большую, долгую дорогу. Он чувствовал, что необходимо учить детей жить не только в клетке сегодняшнего дня, тем более они и сами этого не хотели, им было тесно только в сегодняшнем дне, не зря они с такой жадностью поглощали фантастику. Может, и учебники по истории должны были быть написаны по законам сопричастности, духовного соучастия происходящему, чтоб там действовала не аморфная, безликая масса канувших в лету соотечественников и чужестранцев, а побольше личностей, с цветом глаз, с характером, с пороками и добродетелями, вбирающих в себя время, группирующих вокруг себя события! Строчки из писем и дневников людей, их одежда, жилища, портреты и фотографии, музыка, которую слушали, улицы, по которым ездили, их имена, их еда, их лекарства, обивка мебели, цены на их хлеб и шляпы, их эпидемии, их похороны и рождения... Но, кроме истории, были и другие предметы, в любой эпохе, как бы далеко они ни забирались, их отыскивал пунктуальный школьный звонок, приглашая в буфет или в раздевалку. Даже сейчас, копаясь в архивах и библиотеках, находя живые отзвуки человеческих судеб, он представлял себе, как смог бы рассказать об этом на уроке, и делал длинные, подробные выписки с уверенностью, что они пригодятся... Итак, работа у Федора Ивановича налаживалась, он готов был заниматься ею без выходных и отпусков, не потому, что он был какой-то там фанатик, а потому, что она была для него как бы и не работа, но способ жизни. Но кроме этих радостей было и то, что в последнее время постоянно мучило и угнетало Федора Ивановича,— это предстоящий переезд соседей. Он пытался убедить жену, что делать этого не нужно, что к родственнице можно поездить, поухаживать за ней и без обменов. Нина же восприняла этот разговор раздраженно и ревностно, попрекая излишней привязанностью к чужим и нежеланием подумать о собственной старости. Чужими теперь значились Надя и ее мать. Нина забыла, как она часами таскала маленькую Надьку на руках, как меняла ей колготки, как не вылезала из «Детского мира» и заплетала ей косички, как готовила с ней уроки, как вместо матери потихоньку шла за ней по пятам, когда та в первый раз самостоятельно отправилась в булочную. Все теперь куда-то ушло, и ничего ей не надо, кроме покоя, .как она говорит, и тишины. А что он, Федор Иванович, будет делать с этой тишиной? Конечно, Нину можно понять: не свой ребенок, как ни старайся, а вся ласка, вся любовь девочки все равно идет к матери, а ты — просто теть Нина, соседка, хорошая, добрая тетка... Федор Иванович хочет, но никак не может решиться поговорить с Надей, объяснить эти нелепые перемены, уверить ее, что и дальше они будут видеться, и в любой момент, когда ей захочется, она сможет приехать и даже переночевать в любимой «задвижке». Он жалеет, что не окликнул ее сегодня: заметил же, как она идет через сквер... Не хватило духа, не смог начать разговор там, где учил ее кататься на велосипеде, где разыскивал с ней сбежавшую собаку — бездомную, приведенную Надей, сутки прожившую в их апартаментах. Ему хотелось еще хотя бы на час, на сутки оттянуть мучительную беседу. Он J J J знал, чувствовал, что ни мать, ни его жена Нина — никто ей пока об этом не говорил, должно быть, надеялись на него. Он вернулся поздно, около одиннадцати. Нина спала, из-под двери соседской комнаты сквозила желтая полоска света. Федор Иванович взял сломанный утюг и пошел чинить на кухню. Он разобрал его до винтика, собрал, опять разобрал... Ни Надя, ни ее мама из комнаты не выходили. И тут Федор Иванович вдруг отчетливо понял, что он уже со своим разговором опоздал. х Окно без тополя это не окно, а дырка в пространство. Небо без веток голое, скучное. В нем слишком много простора, и этот простор не радует, а угнетает. С пятнадцатого |








