Пионер 1959-08, страница 24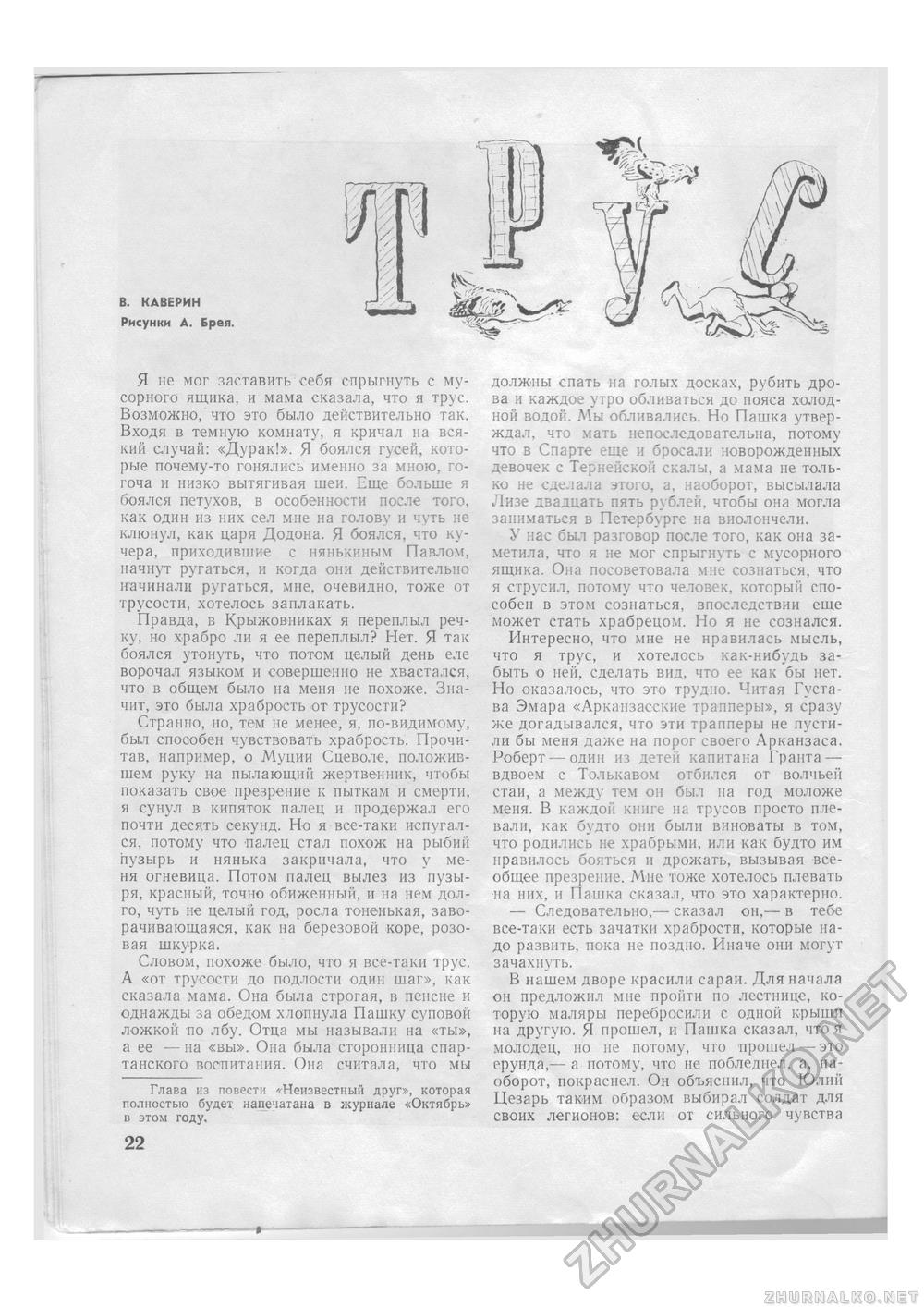
Я не мог заставить себя спрыгнуть с мусорного ящика, и мама сказала, что я трус. Возможно, что это было действительно так. Входя в темную комнату, я кричал на всякий случай: «Дурак!». Я боялся гусей, которые почему-то гонялись именно за мною, гогоча и низко вытягивая шеи. Еще больше я боялся петухов, в особенности после того, как один из них сел мне на голову и чуть не клюнул, как царя Додона. Я боялся, что кучера, приходившие с нянькиным Павлом, начнут ругаться, и когда они действительно начинали ругаться, мне, очевидно, тоже от трусости, хотелось заплакать. Правда, в Крыжовниках я переплыл речку, но храбро ли я ее переплыл? Нет. Я так боялся утонуть, что потом целый день еле ворочал языком и совершенно не хвастался, что в общем было на меня не похоже. Значит, это была храбрость от трусости? Странно, но, тем не менее, я, по-видимому, был способен чувствовать храбрость. Прочитав, например, о Муцин Сцеволе, положившем руку на пылающий жертвенник, чтобы показать свое презрение к пыткам и смерти, я сунул в кипяток палец и продержал его почти десять секунд. Но я все-таки испугался, потому что палец стал похож на рыбий пузырь и нянька закричала, что у меня огневица. Потом палец вылез из пузыря, красный, точно обиженный, и на нем долго, чуть не целый год, росла тоненькая, заворачивающаяся, как на березовой коре, розовая шкурка. Словом, похоже было, что я все-таки трус. А «от трусости до подлости один шаг», как сказала мама. Она была строгая, в пенсне и однажды за обедом хлопнула Пашку суповой ложкой по лбу. Отца мы называли на «ты», а ее — на «вы». Она была сторонница спартанского воспитания. Она считала, что мы Глава из повести "Неизвестный друг», которая полностью будет напечатана в журнале «Октябрь» в этом году. должны спать на голых досках, рубить дрова и каждое утро обливаться до пояса холодной водой. Мы обливались. Но Пашка утверждал, что мать непоследовательна, потому что в Спарте еще и бросали новорожденных девочек с Тернейской скалы, а мама не только не сделала этого, а, наоборот, высылала Лизе двадцать пять рублей, чтобы она могла заниматься в Петербурге на виолончели. У нас был разговор после того, как она заметила, что я не мог спрыгнуть с мусорного ящика. Она посоветовала мне сознаться, что я струсил, потому что человек, который способен в этом сознаться, впоследствии еще может стать храбрецом. Но я не сознался. Интересно, что мне не нравилась мысль, что я трус, и хотелось как-нибудь забыть о ней, сделать вид, что ее как бы нет. Но оказалось, что это трудно. Читая Густава Эмара «Арканзасские трапперы», я сразу же догадывался, что эти трапперы не пустили бы меня даже на порог своего Арканзаса. Роберт — один из детей капитана Гранта — вдвоем с Толькавом отбился от волчьей стаи, а между тем он был па год моложе меня. В каждой книге на трусов просто плевали, как будто они были виноваты в том, что родились не храбрыми, или как будто им нравилось бояться и дрожать, вызывая всеобщее презрение. Мне тоже хотелось плевать на них, и Пашка сказал, что это характерно. — Следовательно,— сказал он,— в тебе все-таки есть зачатки храбрости, которые надо развить, пока не поздно. Иначе они могут зачахнуть. В нашем дворе красили сараи. Для начала он предложил мне пройти по лестнице, которую маляры перебросили с одной крыши на другую. Я прошел, и Пашка сказал, что я молодец, но не потому, что прошел — это ерунда,— а потому, что не побледнел, а, наоборот, покраснел. Он объяснил, что Юлий Цезарь таким образом выбирал солдат для своих легионов: если от сильного чувства 22 |








