Пионер 1988-06, страница 15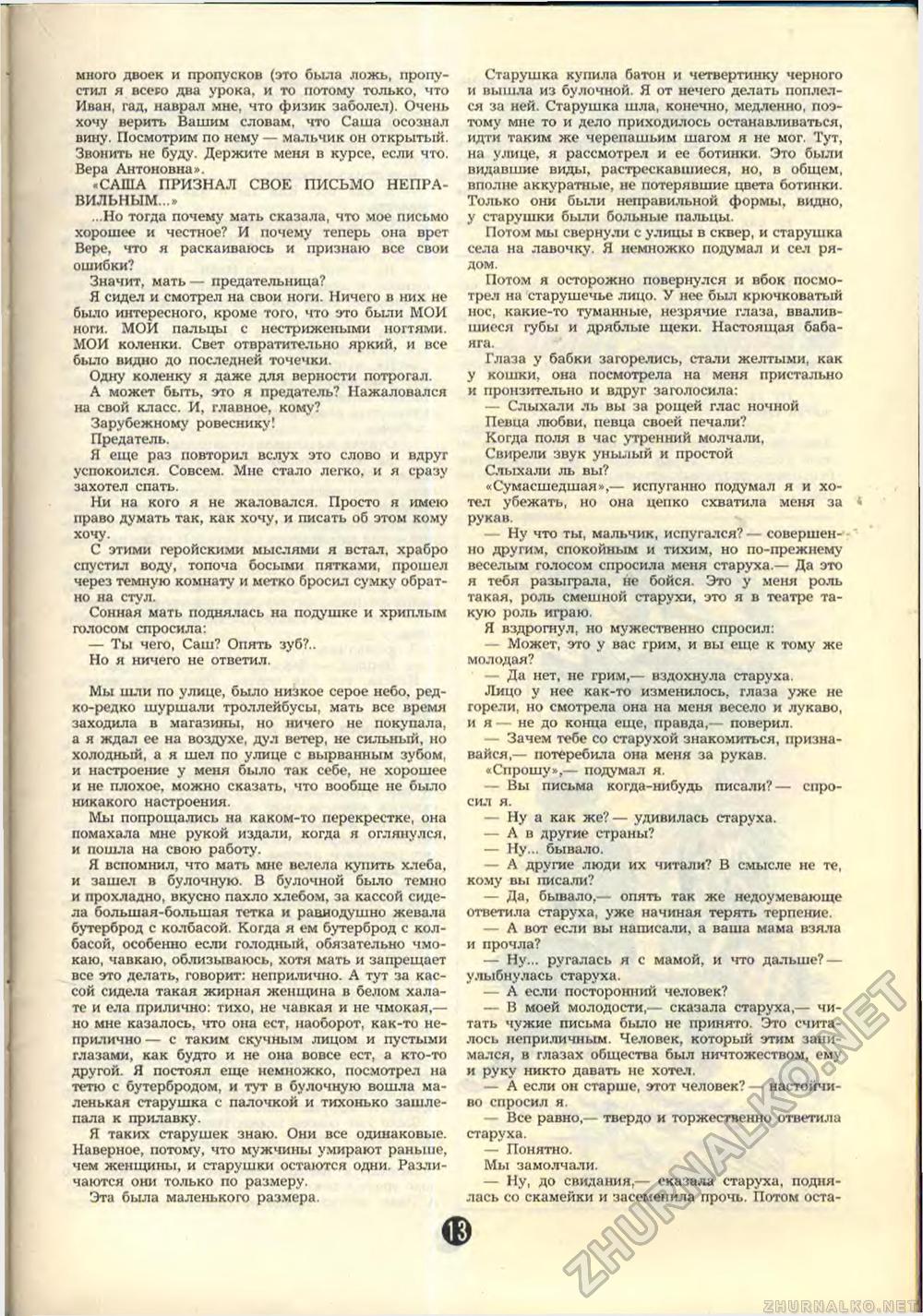
много двоек и пропусков (это была ложь, пропустил я всею два урока, и то потому только, что Иван, гад, наврал мне, что физик заболел). Очень хочу верить Вашим словам, что Саша осознал вину. Посмотрим по нему — мальчик он открытый. Звонить не буду. Держите меня в курсе, если что. Вера Антоновна». «САША ПРИЗНАЛ СВОЕ ПИСЬМО НЕПРАВИЛЬНЫМ...» ...Но тогда почему мать сказала, что мое письмо хорошее и честное? И почему теперь она врет Вере, что я раскаиваюсь и признаю все свои ошибки? Значит, мать — предательница? Я сидел и смотрел на свои ноги. Ничего в них не было интересного, кроме того, что это были МОИ ноги. МОИ пальцы с нестрижеными ногтями. МОИ коленки. Свет отвратительно яркий, и все было видно до последней точечки. Одну коленку я даже для верности потрогал. А может быть, это я предатель? Нажаловался на свой класс. И, главное, кому? Зарубежному ровеснику! Предатель. Я еще раз повторил вслух это слово и вдруг успокоился. Совсем. Мне стало легко, и я сразу захотел спать. Ни на кого я не жаловался. Просто я имею право думать так, как хочу, и писать об этом кому хочу. С этими геройскими мыслями я встал, храбро спустил воду, топоча босыми пятками, прошел через темную комнату и метко бросил сумку обратно на стул. Сонная мать поднялась на подушке и хриплым голосом спросила: — Ты чего, Саш? Опять зуб?.. Но я ничего не ответил. Мы шли по улице, было низкое серое небо, редко-редко шуршали троллейбусы, мать все время заходила в магазины, но ничего не покупала, а я ждал ее на воздухе, дул ветер, не сильный, но холодный, а я шел по улице с вырванным зубом, и настроение у меня было так себе, не хорошее и не плохое, можно сказать, что вообще не было никакого настроения. Мы попрощались на каком-то перекрестке, она помахала мне рукой издали, когда я оглянулся, и пошла на свою работу. Я вспомнил, что мать мне велела купить хлеба, и зашел в булочную. В булочной было темно и прохладно, вкусно пахло хлебом, за кассой сидела большая-большая тетка и равнодушно жевала бутерброд с колбасой. Когда я ем бутерброд с колбасой, особенно если голодный, обязательно чмокаю, чавкаю, облизываюсь, хотя мать и запрещает все это делать, говорит: неприлично. А тут за кассой сидела такая жирная женщина в белом халате и ела прилично: тихо, не чавкая и не чмокая,— но мне казалось, что она ест, наоборот, как-то неприлично— с таким скучным лицом и пустыми глазами, как будто и не она вовсе ест. а кто-то другой. Я постоял еще немножко, посмотрел на тетю с бутербродом, и тут в булочную вошла маленькая старушка с палочкой и тихонько зашлепала к прилавку. Я таких старушек знаю. Они все одинаковые. Наверное, потому, что мужчины умирают раньше, чем женщины, и старушки остаются одни. Различаются они только по размеру. Эта была маленького размера. Старушка купила батон и четвертинку черного и вышла из булочной. Я от нечего делать поплелся за ней. Старушка шла, конечно, медленно, поэтому мне то и дело приходилось останавливаться, идти таким же черепашьим шагом я не мог. Тут, на улице, я рассмотрел и ее ботинки. Это были видавшие виды, растрескавшиеся, но, в общем, вполне аккуратные, не потерявшие цвета ботинки. Только они были неправильной формы, ВИДНО, у старушки были больные пальцы. Потом мы свернули с улицы в сквер, и старушка села на лавочку. Я немножко подумал и сел рядом. Потом я осторожно повернулся и вбок посмотрел на старушечье лицо. У нес был крючковатый нос, какие-то туманные, незрячие глаза, ввалившиеся губы и дряблые щеки. Настоящая баба-яга. Глаза у бабки загорелись, стали желтыми, как у кошки, она посмотрела на меня пристально и пронзительно и вдруг заголосила: — Слыхали ль вы за рощей глас ночной Певца любви, певца своей печали? Когда поля в час утренний молчали, Свирели звук унылый и простой Слыхали ль вы? «Сумасшедшая»,— испуганно подумал я и хотел убежать, но она цепко схватила меня за рукав. — Ну что ты, мальчик, испугался? - - совершенно другим, спокойным и тихим, но по-прежнему веселым голосом спросила меня старуха.— Да это я тебя разыграла, не бойся. Это у меня роль такая, роль смешной старухи, это я в театре такую роль играю. Я вздрогнул, но мужественно спросил: — Может, это у вас грим, и вы еще к тому же молодая? Да нет, не грим,— вздохнула старуха. Лицо у нее как-то изменилось, глаза уже не горели, но смотрела она на меня весело и лукаво, и я не до конца еще, правда, поверил. Зачем тебе со старухой знакомиться, признавайся,— потеребила она меня за рукав. «Спрошу»,— подумал я. -- Вы письма когда-нибудь писали?— спросил я. — Ну а как же?— удивилась старуха. — А в другие страны? — Ну... бывало. — А другие люди их читали? В смысле не те, кому вы писали? — Да, бывало, - опять так же недоумевающе ответила старуха, уже начиная терять терпение. — А вот если вы написали, а ваша мама взяла и прочла? — Ну... ругалась я с мамой, и что дальше? — улыбнулась старуха. — А если посторонний человек? — В моей молодости,— сказала старуха,— читать чужие письма было не принято. Это считалось неприличным. Человек, который этим занимался, в глазах общества был ничтожеством, ему и руку никто давать не хотел. — А если он старше, этот человек? настойчиво спросил я. Все равно,— твердо и торжественно ответила старуха. — Понятно. Мы замолчали. — Ну, до свидания,— сказала старуха, поднялась со скамейки и засеменила прочь. Потом оста- © |








