Пионер 1988-06, страница 27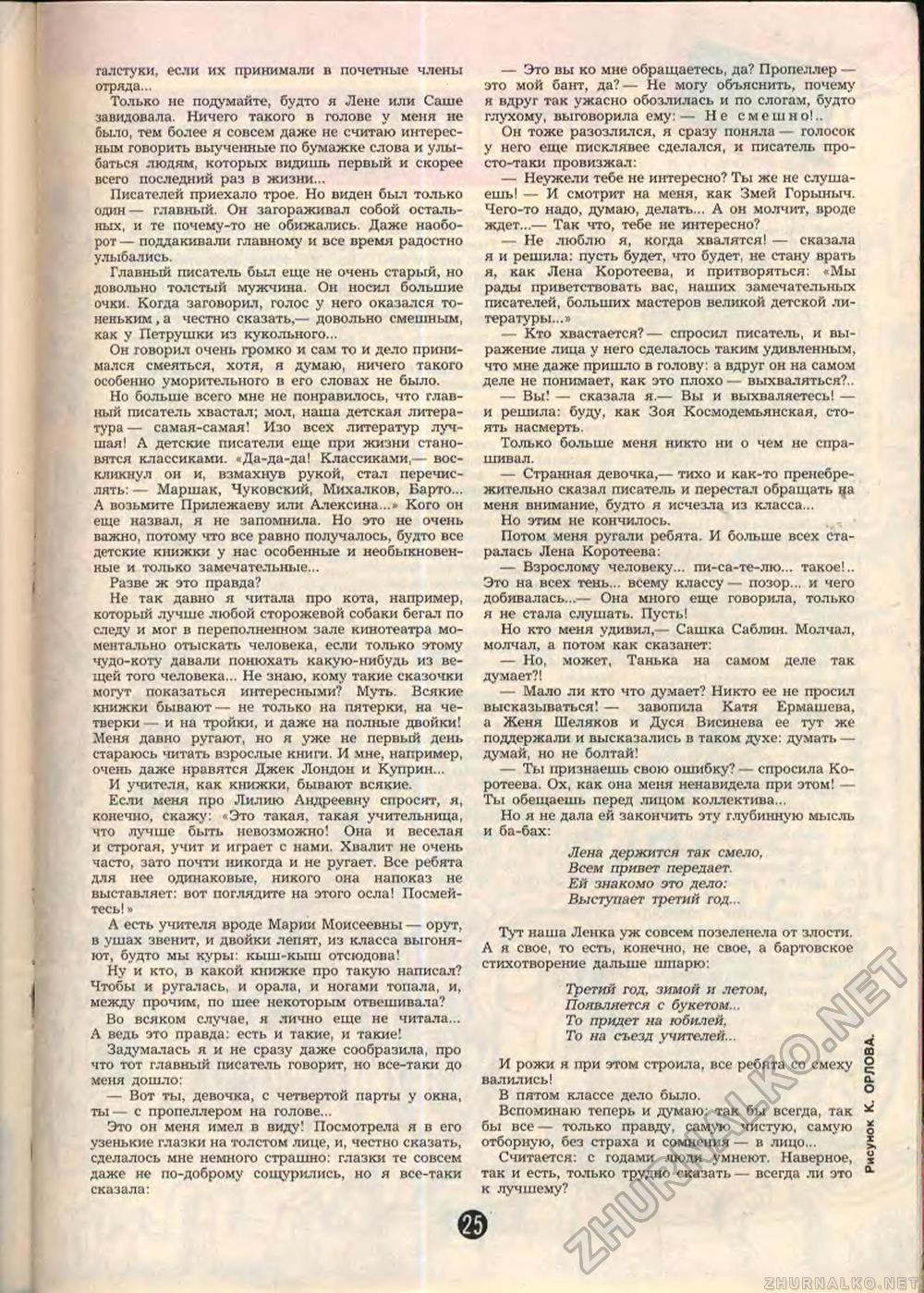
галстуки, если их принимали в почетные члены отряда... Только не подумайте, будто я Лене или Саше завидовала. Ничего такого в голове у меня не было, тем более я совсем даже не считаю интересным говорить выученные по бумажке слова и улыбаться людям, которых видишь первый и скорее всего последний раз в жизни... Писателей приехало трое. Но виден был только один — главный. Он загораживал собой остальных, и те почему-то не обижались. Даже наоборот — поддакивали главному и все время радостно улыбались. Главный писатель был еще не очень старый, но довольно толстый мужчина. Он носил большие очки. Когда заговорил, голос у него оказался тоненьким , а честно сказать,— довольно смешным, как у Петрушки из кукольного... Он говорил очень громко и сам то и дело принимался смеяться, хотя, я думаю, ничего такого особенно уморительного в его словах не было. Но больше всего мне не понравилось, что главный писатель хвастал; мол, наша детская литература — самая-самая! Изо всех литератур лучшая! А детские писатели еще при жизни становятся классиками. «Да-да-да! Классиками,— воскликнул он и, взмахнув рукой, стал перечислять: — Маршак, Чуковский, Михалков, Барто... А возьмите Прилежаеву или Алексина...» Кого он еще назвал, я не запомнила. Но это не очень важно, потому что все равно получалось, будто все детские книжки у нас особенные и необыкновенные и только замечательные... Разве ж это правда? Не так давно я читала про кота, например, который лучше любой сторожевой собаки бегал по следу и мог в переполненном зале кинотеатра моментально отыскать человека, если только этому чудо-коту давали понюхать какую-нибудь из вещей того человека... Не знаю, кому такие сказочки могут показаться интересными? Муть. Всякие книжки бывают— не только на пятерки, на четверки — и на тройки, и даже на полные двойки! Меня давно ругают, но я уже не первый день стараюсь читать взрослые книги. И мне, например, очень даже нравятся Джек Лондон и Куприн... И учителя, как книжки, бывают всякие. Если меня про Лилию Андреевну спросят, я, конечно, скажу: «Это такая, такая учительница, что лучше быть невозможно! Она и веселая и строгая, учит и играет с нами. Хвалит не очень часто, зато почти никогда и не ругает. Все ребята для нее одинаковые, никого она напоказ не выставляет: вот поглядите на этого осла! Посмейтесь! » А есть учителя вроде Марии Моисеевны — орут, в ушах звенит, и двойки лепят, из класса выгоняют, будто мы куры: кыш-кыш отсюдова! Ну и кто, в какой книжке про такую написал? Чтобы и ругалась, и орала, и ногами топала, и, между прочим, по шее некоторым отвешивала? Во всяком случае, я лично еще не читала... А ведь это правда: есть и такие, и такие! Задумалась я и не сразу даже сообразила, про что тот главный писатель говорит, но все-таки до меня дошло: — Вот ты, девочка, с четвертой парты у окна, ты— с пропеллером на голове... Это он меня имел в виду! Посмотрела я в его узенькие глазки на толстом лице, и, честно сказать, сделалось мне немного страшно: глазки те совсем даже не по-доброму сощурились, но я все-таки сказала: — Это вы ко мне обращаетесь, да? Пропеллер — это мой бант, да?— Не могу объяснить, почему я вдруг так ужасно обозлилась и по слогам, будто глухому, выговорила ему:— Не смешно!.. Он тоже разозлился, я сразу поняла голосок у него еще писклявее сделался, и писатель просто-таки провизжал: — Неужели тебе не интересно? Ты же не слушаешь! — И смотрит на меня, как Змей Горыныч. Чего-то надо, думаю, делать... А он молчит, вроде ждет...— Так что, тебе не интересно? — Не люблю я, когда хвалятся! — сказала я и решила: пусть будет, что будет, не стану врать я, как Лена Коротеева, и притворяться: «Мы рады приветствовать вас, наших замечательных писателей, больших мастеров великой детской литературы...» — Кто хвастается?— спросил писатель, и выражение лица у него сделалось таким удивленным, что мне даже пришло в голову: а вдруг он на самом деле не понимает, как это плохо — выхваляться?.. — Вы! — сказала я.— Вы и выхваляетесь! — и решила: буду, как Зоя Космодемьянская, стоять насмерть. Только больше меня никто ни о чем не спрашивал. — Странная девочка,— тихо и как-то пренебрежительно сказал писатель и перестал обращать ца меня внимание, будто я исчезла из класса... Но этим не кончилось. Потом меня ругали ребята. И больше всех старалась Лена Коротеева: — Взрослому человеку... пи-са-те-лю... такое!.. Это на всех тень... всему классу — позор... и чего добивалась...— Она много еще говорила, только я не стала слушать. Пусть! Но кто меня удивил, Сашка Саблин. Молчал, молчал, а потом как сказанет: — Но, может, Танька на самом деле так думает?! — Мало ли кто что думает? Никто ее не просил высказываться! — завопила Катя Ермашева, а Женя Шеляков и Дуся Висинева ее тут же поддержали и высказались в таком духе: думать — думай, но не болтай! — Ты признаешь свою ошибку? — спросила Коротеева. Ох, как она меня ненавидела при этом! — Ты обещаешь перед лицом коллектива... Но я не дала ей закончить эту глубинную мысль и ба-бах: Лена держится так смело. Всем привет передает. Ей знакомо это дело: Выступает третий год... Тут наша Ленка уж совсем позеленела от злости. А я свое, то есть, конечно, не свое, а бартовское стихотворение дальше шпарю: Третий год, зимой и летом, Появляется с букетом... То придет на юбилей, То на съезд учителей... ^ (О И рожи я при этом строила, все ребята со смеху ^ валились! а. В пятом классе дело было. Вспоминаю теперь и думаю: так бы всегда, так * бы все— только правду, самую чистую, самую g отборную, без страха и сомнения — в лицо... Считается: с годами люди умнеют. Наверное, * так и есть, только трудно сказать — всегда ли это CL к лучшему? Ф |








