Пионер 1988-06, страница 8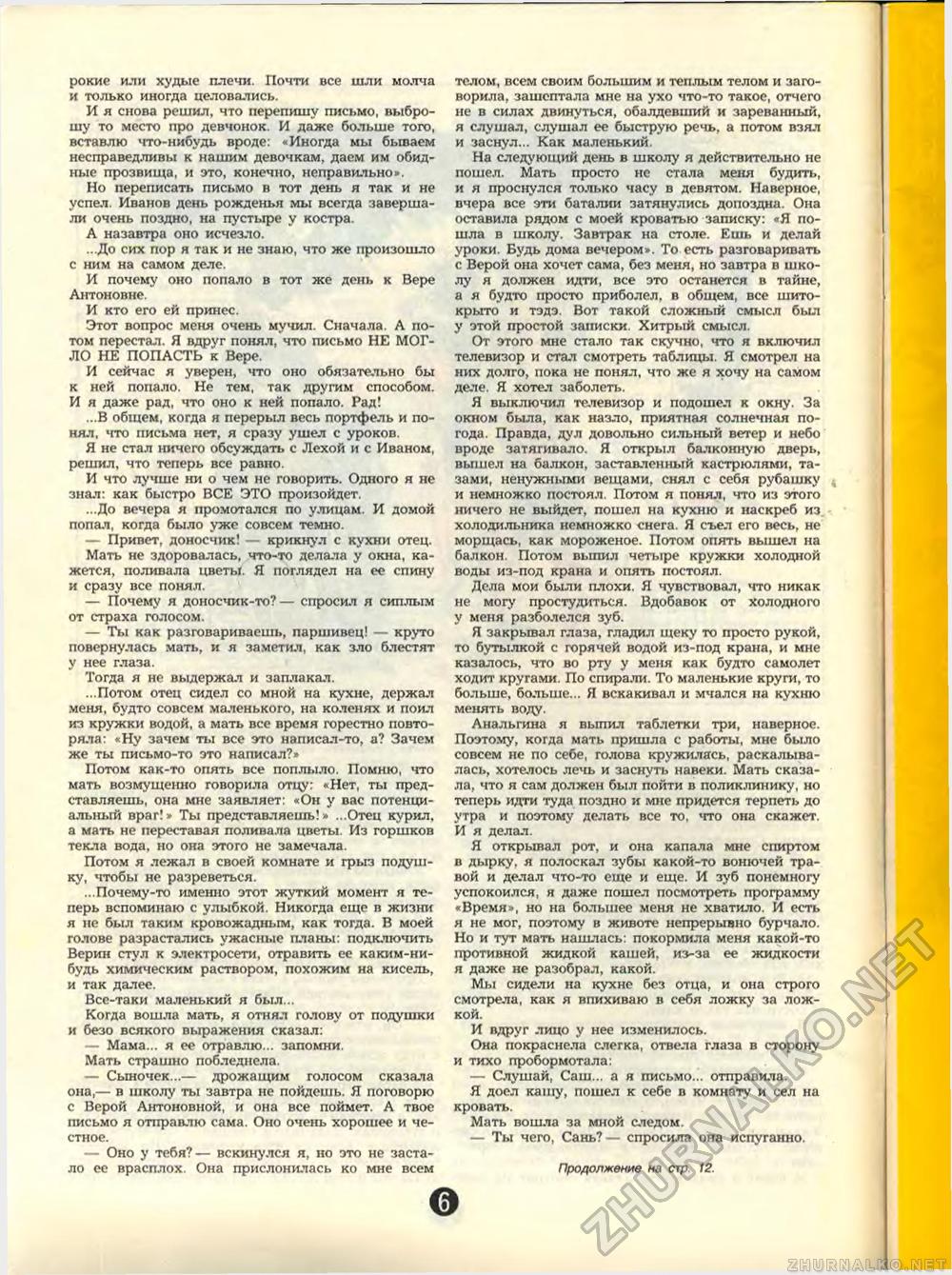
рокие или худые плечи. Почти все шли молча и только иногда целовались. И я снова решил, что перепишу письмо, выброшу то место про девчонок. И даже больше того, вставлю что-нибудь вроде: «Иногда мы бываем несправедливы к нашим девочкам, даем им обидные прозвища, и это, конечно, неправильно». Но переписать письмо в тот день я так и не успел. Иванов день рожденья мы всегда завершали очень поздно, на пустыре у костра. А назавтра оно исчезло. ...До сих пор я так и не знаю, что же произошло с ним на самом деле. И почему оно попало в тот же день к Вере Антоновне. И кто его ей принес. Этот вопрос меня очень мучил. Сначала. А потом перестал. Я вдруг понял, что письмо НЕ МОГЛО НЕ ПОПАСТЬ к Вере. И сейчас я уверен, что оно обязательно бы к ней попало. Не тем, так другим способом. И я даже рад, что оно к ней попало. Рад! ...В общем, когда я перерыл весь портфель и понял, что письма нет, я сразу ушел с уроков. Я не стал ничего обсуждать с Лехой и с Иваном, решил, что теперь все равно. И что лучше ни о чем не говорить. Одного я не знал: как быстро ВСЕ ЭТО произойдет. ...До вечера я промотался по улицам. И домой попал, когда было уже совсем темно. — Привет, доносчик! - крикнул с кухни отец. Мать не здоровалась, что-то делала у окна, кажется, поливала цветы. Я поглядел на ее спину и сразу все понял. — Почему я доносчик-то?— спросил я сиплым от страха голосом. — Ты как разговариваешь, паршивец! — круто повернулась мать, и я заметил, как зло блестят у нее глаза. Тогда я не выдержал и заплакал. ...Потом отец сидел со мной на кухне, держал меня, будто совсем маленького, на коленях и поил из кружки водой, а мать все время горестно повторяла: «Ну зачем ты все это написал-то, а? Зачем же ты письмо-то это написал?» Потом как-то опять все поплыло. Помню, что мать возмущенно говорила отцу: «Нет, ты представляешь, она мне заявляет: «Он у вас потенциальный враг!» Ты представляешь!» ...Отец курил, а мать не переставая поливала цветы. Из горшков текла вода, но она этого не замечала. Потом я лежал в своей комнате и грыз подушку, чтобы не разреветься. ...Почему-то именно этот жуткий момент я теперь вспоминаю с улыбкой. Никогда еще в жизни я не был таким кровожадным, как тогда. В моей голове разрастались ужасные планы: подключить Верин стул к электросети, отравить ее каким-нибудь химическим раствором, похожим на кисель, и так далее. Все-таки маленький я был... Когда вошла мать, я отнял голову от подушки и безо всякого выражения сказал: — Мама... я ее отравлю... запомни. Мать страшно побледнела. — Сыночек...— дрожащим голосом сказала она,— в школу ты завтра не пойдешь. Я поговорю с Верой Антоновной, и она все поймет. А твое письмо я отправлю сама. Оно очень хорошее и честное. — Оно у тебя?— вскинулся я, но это не застало ее врасплох. Она прислонилась ко мне всем телом, всем своим большим и теплым телом и заговорила, зашептала мне на ухо что-то такое, отчего не в силах двинуться, обалдевший и зареванный, я слушал, слушал ее быструю речь, а потом взял и заснул... Как маленький. На следующий день в школу я действительно не пошел. Мать просто не стала меня будить, и я проснулся только часу в девятом. Наверное, вчера все эти баталии затянулись допоздна. Она оставила рядом с моей кроватью записку: «Я пошла в школу. Завтрак на столе. Ешь и делай уроки. Будь дома вечером». То есть разговаривать с Верой она хочет сама, без меня, но завтра в школу я должен идти, все это останется в тайне, а я будто просто приболел, в общем, все шито-крыто и тэдэ. Вот такой сложный смысл был у этой простой записки. Хитрый смысл. От этого мне стало так скучно, что я включил телевизор и стал смотреть таблицы. Я смотрел на них долго, пока не понял, что же я хочу на самом деле. Я хотел заболеть. Я выключил телевизор и подошел к окну. За окном была, как назло, приятная солнечная погода. Правда, дул довольно сильный ветер и небо вроде затягивало. Я открыл балконную дверь, вьгшел на балкон, заставленный кастрюлями, тазами, ненужными вещами, снял с себя рубашку и немножко постоял. Потом я понял, что из этого ничего не выйдет, пошел на кухню и наскреб из холодильника немножко снега. Я съел его весь, не морщась, как мороженое. Потом опять вышел на балкон. Потом выпил четыре кружки холодной воды из-под крана и опять постоял. Дела мои были плохи. Я чувствовал, что никак не могу простудиться. Вдобавок от холодного у меня разболелся зуб. Я закрывал глаза, гладил щеку то просто рукой, то бутылкой с горячей водой из-под крана, и мне казалось, что во рту у меня как будто самолет ходит кругами. По спирали. То маленькие круги, то больше, больше... Я вскакивал и мчался на кухню менять воду. Анальгина я выпил таблетки три, наверное. Поэтому, когда мать пришла с работы, мне было совсем не по себе, голова кружилась, раскалывалась, хотелось лечь и заснуть навеки. Мать сказала, что я сам должен был пойти в поликлинику, но теперь идти туда поздно и мне придется терпеть до утра и поэтому делать все то, что она скажет. И я делал. Я открывал рот, и она капала мне спиртом в дырку, я полоскал зубы какой-то вонючей травой и делал что-то еще и еще. И зуб понемногу успокоился, я даже пошел посмотреть программу «Время», но на большее меня не хватило. И есть я не мог, поэтому в животе непрерывно бурчало. Но и тут мать нашлась: покормила меня какой-то противной жидкой кашей, из-за ее жидкости я даже не разобрал, какой. Мы сидели на кухне без отца, и она строго смотрела, как я впихиваю в себя ложку за ложкой. И вдруг лицо у нее изменилось. Она покраснела слегка, отвела глаза в сторону и тихо пробормотала: — Слушай, Саш... а я письмо... отправила. Я доел кашу, пошел к себе в комнату и сел на кровать. Мать вошла за мной следом. — Ты чего, Сань?— спросила она испуганно. Продолжение на стр. 12. О |








