Сделай Сам (Знание) 1999-02, страница 142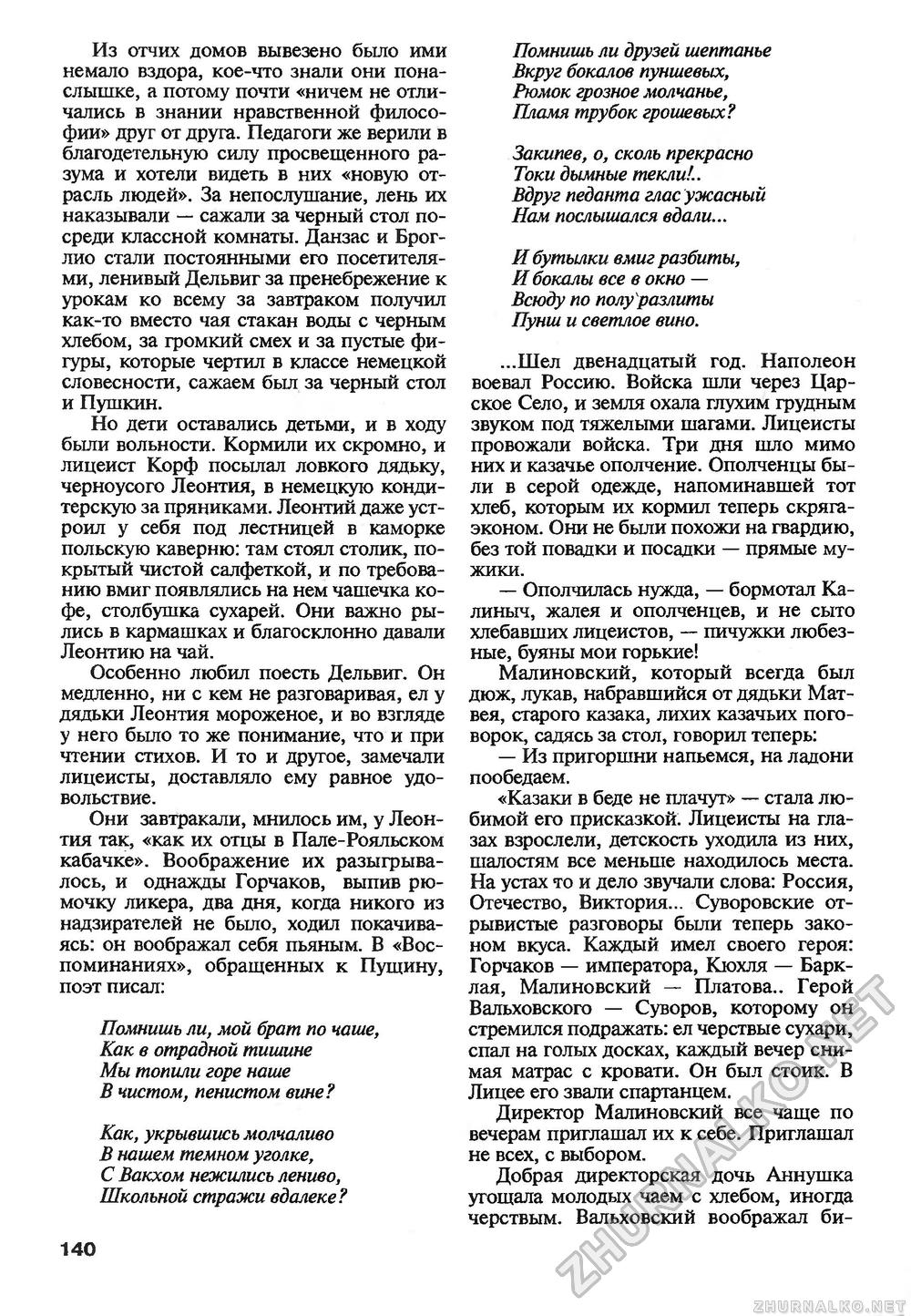
Из отчих домов вывезено было ими немало вздора, кое-что знали они понаслышке, а потому почти «ничем не отличались в знании нравственной философии» друг от друга. Педагоги же верили в благодетельную силу просвещенного разума и хотели видеть в них «новую отрасль людей». За непослушание, лень их наказывали — сажали за черный стол посреди классной комнаты. Данзас и Брог-лио стали постоянными его посетителями, ленивый Дельвиг за пренебрежение к урокам ко всему за завтраком получил как-то вместо чая стакан воды с черным хлебом, за громкий смех и за пустые фигуры, которые чертил в классе немецкой словесности, сажаем был за черный стол и Пушкин. Но дети оставались детьми, и в ходу были вольности. Кормили их скромно, и лицеист Корф посылал ловкого дядьку, черноусого Леонтия, в немецкую кондитерскую за пряниками. Леонтий даже устроил у себя под лестницей в каморке польскую каверню: там стоял столик, покрытый чистой салфеткой, и по требованию вмиг появлялись на нем чашечка кофе, столбушка сухарей. Они важно рылись в кармашках и благосклонно давали Леонтию на чай. Особенно любил поесть Дельвиг. Он медленно, ни с кем не разговаривая, ел у дядьки Леонтия мороженое, и во взгляде у него было то же понимание, что и при чтении стихов. И то и другое, замечали лицеисты, доставляло ему равное удовольствие. Они завтракали, мнилось им, у Леонтия так, «как их отцы в Пале-Рояльском кабачке». Воображение их разыгрывалось, и однажды Горчаков, выпив рюмочку ликера, два дня, когда никого из надзирателей не было, ходил покачиваясь: он воображал себя пьяным. В «Воспоминаниях», обращенных к Пущину, поэт писал: Помнишь ли, мой брат по чаше, Как в отрадной тишине Мы топили горе наше В чистом, пенистом вине? Как, укрывшись молчаливо В нашем темном уголке, С Вакхом нежились лениво, Школьной стражи вдалеке? Помнишь ли друзей шептанье Вкруг бокалов пуншевых, Рюмок грозное молчанье, Пламя трубок грошевых? Закипев, о, сколь прекрасно Токи дымные текли!.. Вдруг педанта глас ужасный Нам послышался вдали... И бутылки вмиг разбиты, И бокалы все в окно — Всюду по полу разлиты Пунш и светлое вино. ...Шел двенадцатый год. Наполеон воевал Россию. Войска шли через Царское Село, и земля охала глухим грудным звуком под тяжелыми шагами. Лицеисты провожали войска. Три дня шло мимо них и казачье ополчение. Ополченцы были в серой одежде, напоминавшей тот хлеб, которым их кормил теперь скряга-эконом. Они не были похожи на гвардию, без той повадки и посадки — прямые мужики. — Ополчилась нужда, — бормотал Ка-линыч, жалея и ополченцев, и не сыто хлебавших лицеистов, — пичужки любезные, буяны мои горькие! Малиновский, который всегда был дюж, лукав, набравшийся от дядьки Матвея, старого казака, лихих казачьих поговорок, садясь за стол, говорил теперь: — Из пригоршни напьемся, на ладони пообедаем. «Казаки в беде не плачут» — стала любимой его присказкой. Лицеисты на глазах взрослели, детскость уходила из них, шалостям все меньше находилось места. На устах то и дело звучали слова: Россия, Отечество, Виктория... Суворовские отрывистые разговоры были теперь законом вкуса. Каждый имел своего героя: Горчаков — императора, Кюхля — Барклая, Малиновский — Платова.. Герой Вальховского — Суворов, которому он стремился подражать: ел черствые сухари, спал на голых досках, каждый вечер снимая матрас с кровати. Он был стоик. В Лицее его звали спартанцем. Директор Малиновский все чаще по вечерам приглашал их к себе. Приглашал не всех, с выбором. Добрая директорская дочь Аннушка угощала молодых чаем с хлебом, иногда черствым. Вальховский воображал би 140 |








