Вокруг света 1969-05, страница 71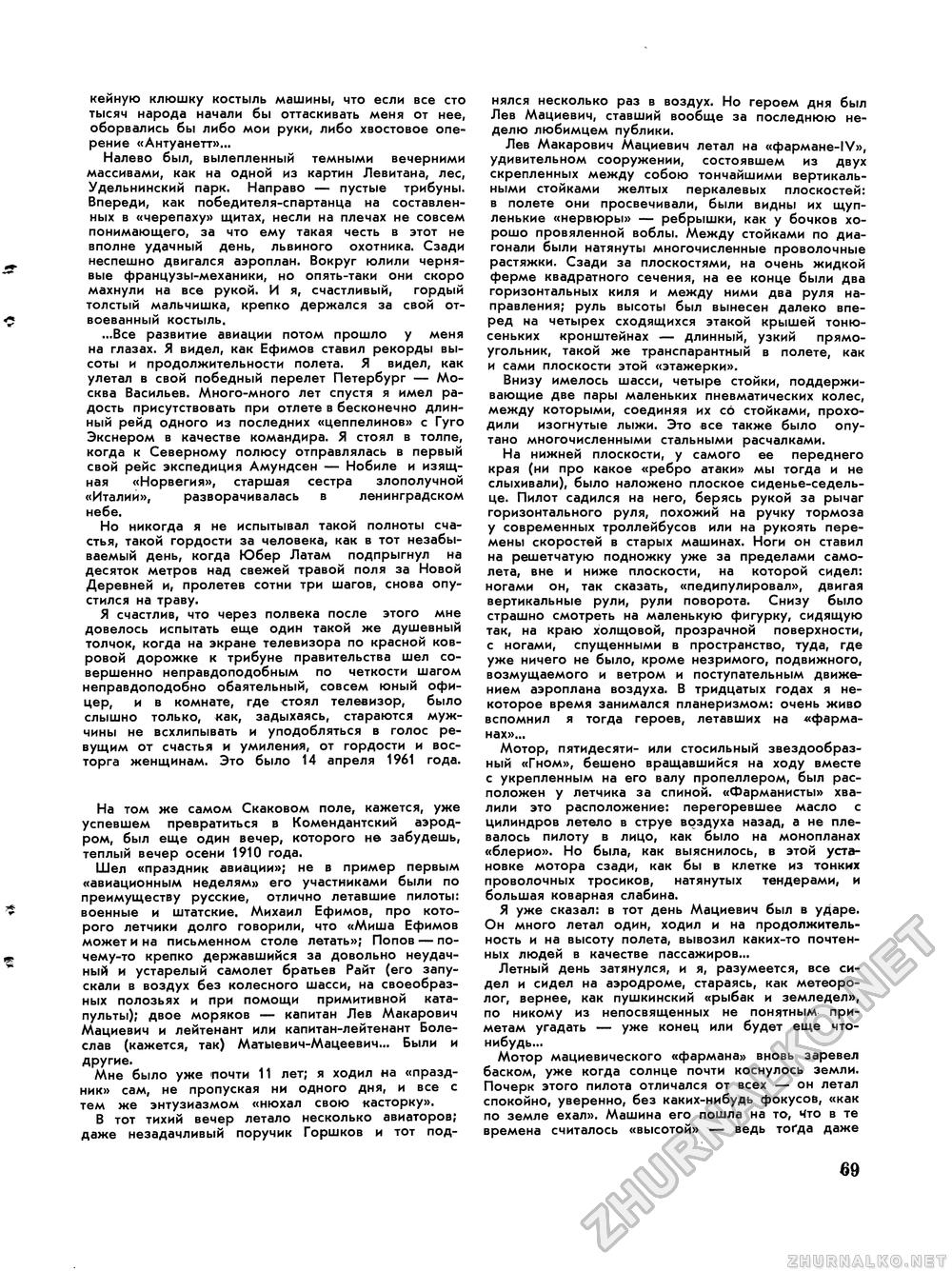
кейную клюшку костыль машины, что если все сто тысяч народа начали бы оттаскивать меня от нее, оборвались бы либо мои руки, либо хвостовое оперение «Антуанетт»... Налево был, вылепленный темными вечерними массивами, как на одной из картин Левитана, лес, Удельнинский парк. Направо — пустые трибуны. Впереди, как победителя-спартанца на составленных в «черепаху» щитах, несли на плечах не совсем понимающего, за что ему такая честь в этот не вполне удачный день, львиного охотника. Сзади неспешно двигался аэроплан. Вокруг юлили чернявые французы-механики, но опять-таки они скоро махнули на все рукой. И я, счастливый, гордый толстый мальчишка, крепко держался за свой отвоеванный костыль. ...Все развитие авиации потом прошло у меня на глазах. Я видел, как Ефимов ставил рекорды высоты и продолжительности полета. Я видел, как улетал в свой победный перелет Петербург — Москва Васильев. Много-много лет спустя я имел радость присутствовать при отлете в бесконечно длинный рейд одного из последних «цеппелинов» с Гуго Экснером в качестве командира. Я стоял в толпе, когда к Северному полюсу отправлялась в первый свой рейс экспедиция Амундсен — Нобиле и изящная «Норвегия», старшая сестра злополучной «Италии», разворачивалась в ленинградском небе. Но никогда я не испытывал такой полноты счастья, такой гордости за человека, как в тот незабываемый день, когда Юбер Латам подпрыгнул на десяток метров над свежей травой поля за Новой Деревней и, пролетев сотни три шагов, снова опустился на траву. Я счастлив, что через полвека после этого мне довелось испытать еще один такой же душевный толчок, когда на экране телевизора по красной ковровой дорожке к трибуне правительства шел совершенно неправдоподобным по четкости шагом неправдоподобно обаятельный, совсем юный офицер, и в комнате, где стоял телевизор, было слышно только, как, задыхаясь, стараются мужчины не всхлипывать и уподобляться в голос ревущим от счастья и умиления, от гордости и восторга женщинам. Это было 14 апреля 1961 года. На том же самом Скаковом поле, кажется, уже успевшем превратиться в Комендантский аэродром, был еще один вечер, которого не забудешь, теплый вечер осени 1910 года. Шел «праздник авиации»; не в пример первым «авиационным неделям» его участниками были по преимуществу русские, отлично летавшие пилоты: военные и штатские. Михаил Ефимов, про которого летчики долго говорили, что «Миша Ефимов может и на письменном столе летать»; Попов — почему-то крепко державшийся за довольно неудачный и устарелый самолет братьев Райт (его запускали в воздух без колесного шасси, на своеобразных полозьях и при помощи примитивной катапульты); двое моряков — капитан Лев Макарович Мациевич и лейтенант или капитан-лейтенант Болеслав (кажется, так) Матыевич-Мацеевич... Были и Другие. Мне было уже почти 11 лет; я ходил на «праздник» сам, не пропуская ни одного дня, и все с тем же энтузиазмом «нюхал свою касторку». В тот тихий вечер летало несколько авиаторов; даже незадачливый поручик Горшков и тот под нялся несколько раз в воздух. Но героем дня был Лев Мациевич, ставший вообще за последнюю неделю любимцем публики. Лев Макарович Мациевич летал на «фармане-IV», удивительном сооружении, состоявшем из двух скрепленных между собою тончайшими вертикальными стойками желтых перкалевых плоскостей: в полете они просвечивали, были видны их щуп-ленькие «нервюры» — ребрышки, как у бочков хорошо провяленной воблы. Между стойками по диагонали были натянуты многочисленные проволочные растяжки. Сзади за плоскостями, на очень жидкой ферме квадратного сечения, на ее конце были два горизонтальных киля и между ними два руля направления; руль высоты был вынесен далеко вперед на четырех сходящихся этакой крышей тонюсеньких кронштейнах — длинный, узкий прямоугольник, такой же транспарантный в полете, как и сами плоскости этой «этажерки». Внизу имелось шасси, четыре стойки, поддерживающие две пары маленьких пневматических колес, между которыми, соединяя их со стойками, проходили изогнутые лыжи. Это все также было опутано многочисленными стальными расчалками. На нижней плоскости, у самого ее переднего края (ни про какое «ребро атаки» мы тогда и не слыхивали), было наложено плоское сиденье-седельце. Пилот садился на него, берясь рукой за рычаг горизонтального руля, похожий на ручку тормоза у современных троллейбусов или на рукоять перемены скоростей в старых машинах. Ноги он ставил на решетчатую подножку уже за пределами самолета, вне и ниже плоскости, на которой сидел: ногами он, так сказать, «педипулировал», двигая вертикальные рули, рули поворота. Снизу было страшно смотреть на маленькую фигурку, сидящую так, на краю холщовой, прозрачной поверхности, с ногами, спущенными в пространство, туда, где уже ничего не было, кроме незримого, подвижного, возмущаемого и ветром и поступательным движением аэроплана воздуха. В тридцатых годах я некоторое время занимался планеризмом: очень живо вспомнил я тогда героев, летавших на «фарма-нах»... Мотор, пятидесяти- или стосильный звездообразный «Гном», бешено вращавшийся на ходу вместе с укрепленным на его валу пропеллером, был расположен у летчика за спиной. «Фарманисты» хвалили это расположение: перегоревшее масло с цилиндров летело в струе воздуха назад, а не плевалось пилоту в лицо, как было на монопланах «блерио». Но была, как выяснилось, в этой установке мотора сзади, как бы в клетке из тонких проволочных тросиков, натянутых тендерами, и большая коварная слабина. Я уже сказал: в тот день Мациевич был в ударе. Он много летал один, ходил и на продолжительность и на высоту полета, вывозил каких-то почтенных людей в качестве пассажиров... Летный день затянулся, и я, разумеется, все сидел и сидел на аэродроме, стараясь, как метеоролог, вернее, как пушкинский «рыбак и земледел», по никому из непосвященных не понятным приметам угадать — уже конец или будет еще что-нибудь... Мотор мациевического «фармана» вновь заревел баском, уже когда солнце почти коснулось земли. Почерк этого пилота отличался от всех — он летал спокойно, уверенно, без каких-нибудь фокусов, «как по земле ехал». Машина его пошла на то, Что в те времена считалось «высотой» — ведь тогда даже 69 |








