Вокруг света 1969-05, страница 69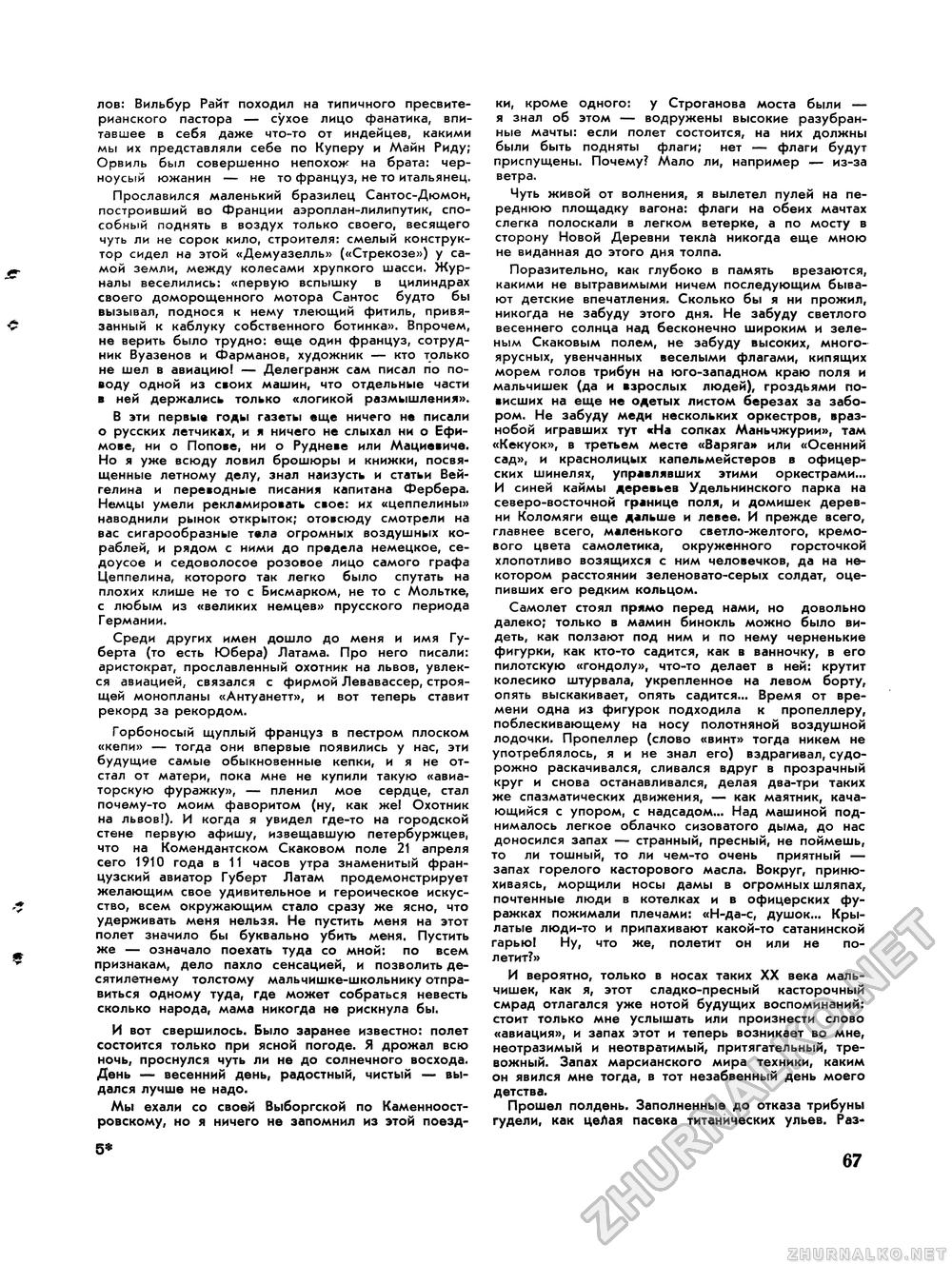
лов: Вильбур Райт походил на типичного пресвитерианского пастора — сухое лицо фанатика, впитавшее в себя даже что-то от индейцев, какими мы их представляли себе по Куперу и Майн Риду; Орвиль был совершенно непохож на брата: черноусый южанин — не то француз, не то итальянец. Прославился маленький бразилец Сантос-Дюмон, построивший во Франции аэроплан-лилипутик, способный поднять в воздух только своего, весящего чуть ли не сорок кило, строителя: смелый конструктор сидел на этой «Демуазелль» («Стрекозе») у самой земли, между колесами хрупкого шасси. Журналы веселились: «первую вспышку в цилиндрах своего доморощенного мотора Сантос будто бы вызывал, поднося к нему тлеющий фитиль, привязанный к каблуку собственного ботинка». Впрочем, не верить было трудно: еще один француз, сотрудник Вуазенов и Фарманов, художник — кто только не шел в авиацию! — Делегранж сам писал по поводу одной из своих машин, что отдельные части в ней держались только «логикой размышления». В эти первые годы газеты еще ничего не писали о русских летчиках, и я ничего не слыхал ни о Ефимове, ни о Попове, ни о Рудневе или Мациевиче. Но я уже всюду ловил брошюры и книжки, посвященные летному делу, знал наизусть и статьи Вей-гелина и переводные писания капитана Фербера. Немцы умели рекламировать свое: их «цеппелины» наводнили рынок открыток; отовсюду смотрели на вас сигарообразные тела огромных воздушных кораблей, и рядом с ними до предела немецкое, седоусое и седоволосое розовое лицо самого графа Цеппелина, которого так легко было спутать на плохих клише не то с Бисмарком, не то с Мольтке, с любым из «великих немцев» прусского периода Германии. Среди других имен дошло до меня и имя Губерта (то есть Юбера) Латама. Про него писали: аристократ, прославленный охотник на львов, увлекся авиацией, связался с фирмой Левавассер, строящей монопланы «Антуанетт», и вот теперь ставит рекорд за рекордом. Горбоносый щуплый француз в пестром плоском «кепи» — тогда они впервые появились у нас, эти будущие самые обыкновенные кепки, и я не отстал от матери, пока мне не купили такую «авиаторскую фуражку», — пленил мое сердце, стал почему-то моим фаворитом (ну, как же! Охотник на львов!). И когда я увидел где-то на городской стене первую афишу, извещавшую петербуржцев, что на Комендантском Скаковом поле 21 апреля сего 1910 года в 11 часов утра знаменитый французский авиатор Губерт Латам продемонстрирует желающим свое удивительное и героическое искусство, всем окружающим стало сразу же ясно, что удерживать меня нельзя. Не пустить меня на этот полет значило бы буквально убить меня. Пустить же — означало поехать туда со мной: по всем признакам, дело пахло сенсацией, и позволить десятилетнему толстому мальчишке-школьнику отправиться одному туда, где может собраться невесть сколько народа, мама никогда не рискнула бы. И вот свершилось. Было заранее известно: полет состоится только при ясной погоде. Я дрожал всю ночь, проснулся чуть ли не до солнечного восхода. День — весенний день, радостный, чистый — выдался лучше не надо. Мы ехали со своей Выборгской по Каменноост-ровскому, но я ничего не запомнил из этой поезд ки, кроме одного: у Строганова моста были — я знал об этом — водружены высокие разубранные мачты: если полет состоится, на них должны были быть подняты флаги; нет — флаги будут приспущены. Почему? Мало ли, например — из-за ветра. Чуть живой от волнения, я вылетел пулей на переднюю площадку вагона: флаги на обеих мачтах слегка полоскали в легком ветерке, а по мосту в сторону Новой Деревни текла никогда еще мною не виданная до этого дня толпа. Поразительно, как глубоко в память врезаются, какими не вытравимыми ничем последующим бывают детские впечатления. Сколько бы я ни прожил, никогда не забуду этого дня. Не забуду светлого весеннего солнца над бесконечно широким и зеленым Скаковым полем, не забуду высоких, многоярусных, увенчанных веселыми флагами, кипящих морем голов трибун на юго-западном краю поля и мальчишек (да и взрослых людей), гроздьями повисших на еще не одетых листом березах за забором. Не забуду меди нескольких оркестров, вразнобой игравших тут «На солках Маньчжурии», там «Кекуок», в третьем месте «Варяга» или «Осенний сад», и краснолицых капельмейстеров в офицерских шинелях, управлявших этими оркестрами... И синей каймы деревьев Удельнинского парка на северо-восточной границе поля, и домишек деревни Коломяги еще дальше и левее. И прежде всего, главнее всего, маленького светло-желтого, кремового цвета самолетика, окруженного горсточкой хлопотливо возящихся с ним человечков, да на некотором расстоянии зеленовато-серых солдат, оцепивших его редким кольцом. Самолет стоял прямо перед нами, но довольно далеко; только в мамин бинокль можно было видеть, как ползают под ним и по нему черненькие фигурки, как кто-то садится, как в ванночку, в его пилотскую «гондолу», что-то делает в ней: крутит колесико штурвала, укрепленное на левом борту, опять выскакивает, опять садится... Время от времени одна из фигурок подходила к пропеллеру, поблескивающему на носу полотняной воздушной лодочки. Пропеллер (слово «винт» тогда никем не употреблялось, я и не знал его) вздрагивал, судорожно раскачивался, сливался вдруг в прозрачный круг и снова останавливался, делая два-три таких же спазматических движения, — как маятник, качающийся с упором, с надсадом... Над машиной поднималось легкое облачко сизоватого дыма, до нас доносился запах — странный, пресный, не поймешь, то ли тошный, то ли чем-то очень приятный — запах горелого касторового масла. Вокруг, принюхиваясь, морщили носы дамы в огромных шляпах, почтенные люди в котелках и в офицерских фуражках пожимали плечами: «Н-да-с, душок... Крылатые люди-то и припахивают какой-то сатанинской гарью! Ну, что же, полетит он или не полетит?» И вероятно, только в носах таких XX века мальчишек, как я, этот сладко-пресный касторочный смрад отлагался уже нотой будущих воспоминаний: стоит только мне услышать или произнести слово «авиация», и запах этот и теперь возникает во мне, неотразимый и неотвратимый, притягательный, тревожный. Запах марсианского мира техники, каким он явился мне тогда, в тот незабвенный день моего детства. Прошел полдень. Заполненные до отказа трибуны гудели, как цеЛая пасека титанйческих ульев. Раз 5* 67 |








