Юный Натуралист 1972-08, страница 25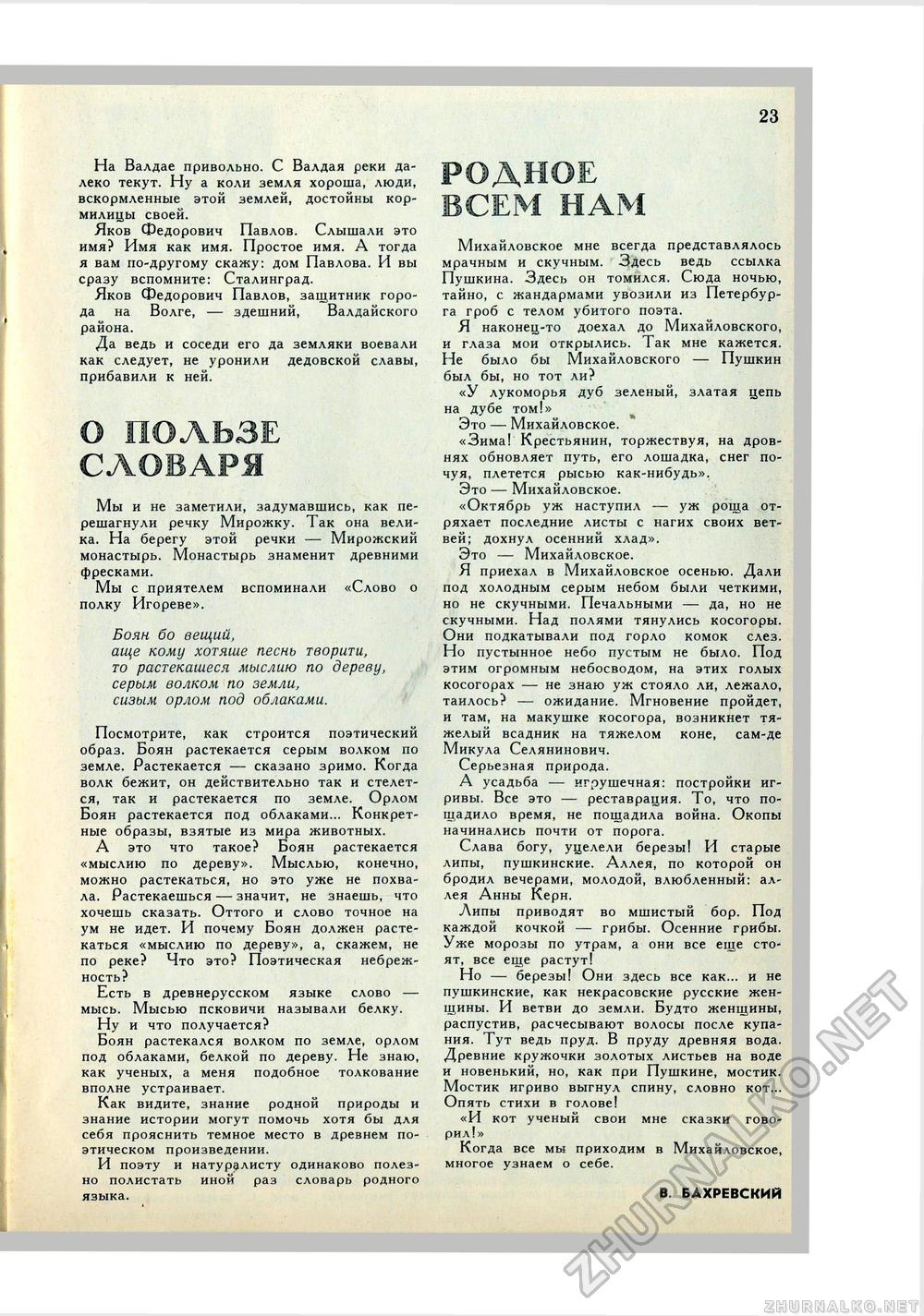
23 На Валдае привольно. С Валдая реки далеко текут. Ну а коли земля хороша, люди, вскормленные этой землей, достойны кормилицы своей. Яков Федорович Павлов. Слышали это имя? Имя как имя. Простое имя. А тогда я вам по-другому скажу: дом Павлова. И вы сразу вспомните: Сталинград. Яков Федорович Павлов, защитник города на Волге, — здешний, Валдайского района. Да ведь и соседи его да земляки воевали как следует, не уронили дедовской славы, прибавили к ней. ПОЛЬЗЕ 1АРШМы и не заметили, задумавшись, как перешагнули речку Мирожку. Так она велика. На берегу этой речки — Мирожский монастырь. Монастырь знаменит древними фресками. Мы с приятелем вспоминали «Слово о полку Игореве». Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекшиеся мыслию по дереву, серым волком по земли, сизым орлом под облаками. Посмотрите, как строится поэтический образ. Боян растекается серым волком по земле. Растекается — сказано зримо. Когда волк бежит, он действительно так и стелется, так и растекается по земле. Орлом Боян растекается под облаками... Конкретные образы, взятые из мира животных. А это что такое? Боян растекается «мыслию по дереву». Мыслью, конечно, можно растекаться, но это уже не похвала. Растекаешься—значит, не знаешь, что хочешь сказать. Оттого и слово точное на ум не идет. И почему Боян должен растекаться «мыслию по дереву», а, скажем, не по реке? Что это? Поэтическая небрежность? Есть в древнерусском языке слово — мысь. Мысью псковичи называли белку. Ну и что получается? Боян растекался волком по земле, орлом под облаками, белкой по дереву. Не знаю, как ученых, а меня подобное толкование вполне устраивает. Как видите, знание родной природы и знание истории могут помочь хотя бы для себя прояснить темное место в древнем поэтическом произведении. И поэту и натуралисту одинаково полезно полистать иной раз словарь родного языка. Михайловское мне всегда представлялось мрачным и скучным. Здесь ведь ссылка Пушкина. Здесь он томился. Сюда ночью, тайно, с жандармами увозили из Петербурга гроб с телом убитого поэта. Я наконец-то доехал до Михайловского, и глаза мои открылись. Так мне кажется. Не было бы Михайловского — Пушкин был бы, но тот ли? «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том!» Это — Михайловское. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь, его лошадка, снег по-чуя, плетется рысью как-нибудь». Это — Михайловское. «Октябрь уж наступил — уж роща от-ряхает последние листы с нагих своих ветвей; дохнул осенний хлад». Это — Михайловское. Я приехал в Михайловское осенью. Дали под холодным серым небом были четкими, но не скучными. Печальными — да, но не скучными. Над полями тянулись косогоры. Они подкатывали под горло комок слез. Но пустынное небо пустым не было. Под этим огромным небосводом, на этих голых косогорах — не знаю уж стояло ли, лежало, таилось? — ожидание. Мгновение пройдет, и там, на макушке косогора, возникнет тяжелый всадник на тяжелом коне, сам-де Микула Селянинович. Серьезная природа. А усадьба — игрушечная: постройки игривы. Все это — реставрация. То, что пощадило время, не пощадила война. Окопы начинались почти от порога. Слава богу, уцелели березы! И старые липы, пушкинские. Аллея, по которой он бродил вечерами, молодой, влюбленный: аллея Анны Керн. Липы приводят во мшистый бор. Под каждой кочкой — грибы. Осенние грибы. Уже морозы по утрам, а они все еще стоят, все еще растут! Но — березы! Они здесь все как... и не пушкинские, как некрасовские русские женщины. И ветви до земли. Будто женщины, распустив, расчесывают волосы после купания. Тут ведь пруд. В пруду древняя вода. Древние кружочки золотых листьев на воде и новенький, но, как при Пушкине, мостик. Мостик игриво выгнул спину, словно кот... Опять стихи в голове! «И кот ученый свои мне сказки говорил!» Когда все мы приходим в Михайловское, многое узнаем о себе. В. БАХРЕВСКИЙ |








