Юный Натуралист 1976-05, страница 4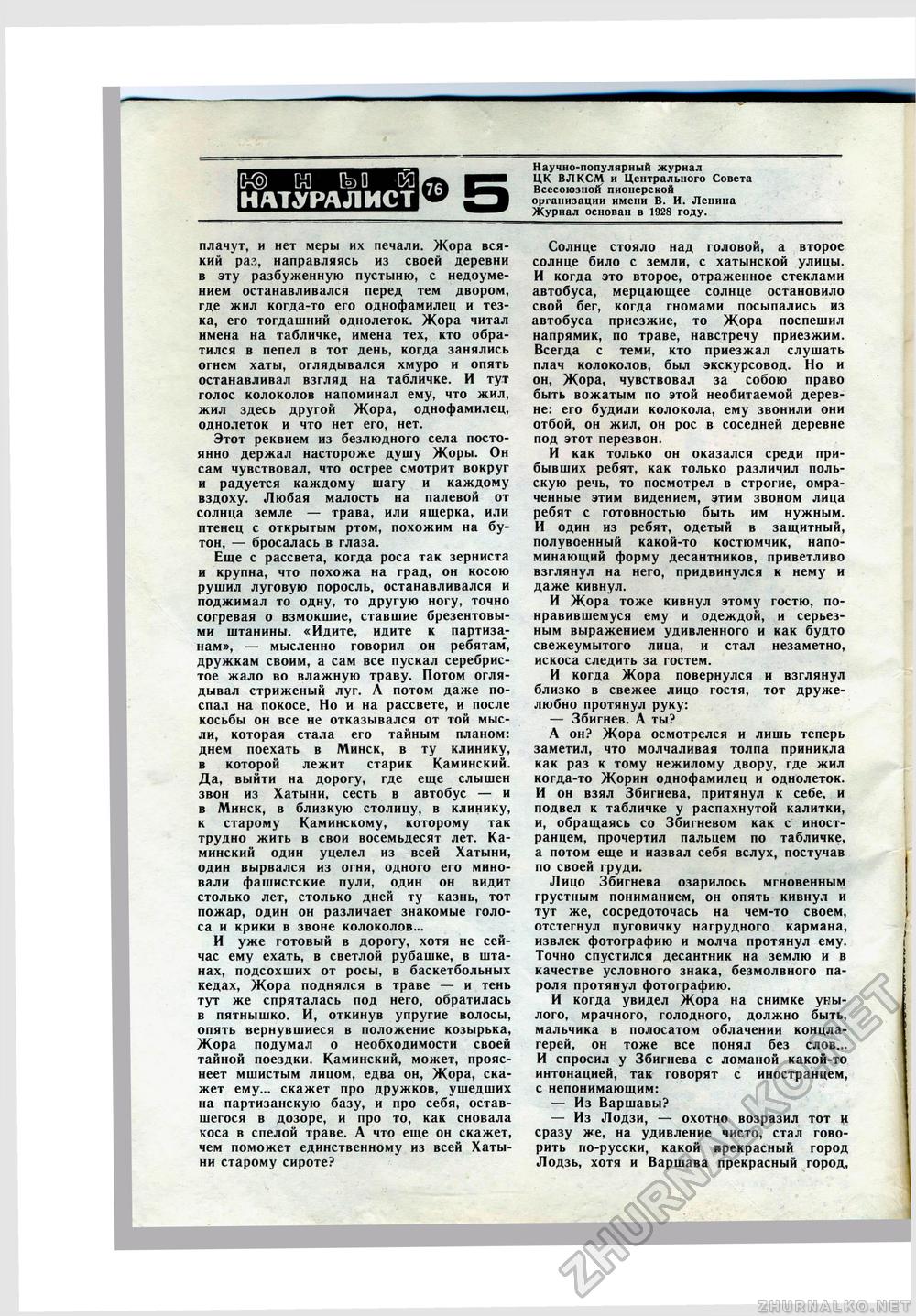
Научно-популярный журнал ^ЩЕЩРЕЩад© С Всесоюзной пионерскойЬНОГ° , Уд 1 fi J | j [Ц I" организации имени В. И. JI( ж ... - ^^^^ Журнал основан в 1928 году плачут, и нет меры их печали. Жора всякий раз, направляясь из своей деревни в эту разбуженную пустыню, с недоумением останавливался перед тем двором, где жил когда-то его однофамилец и тезка, его тогдашний однолеток. Жора читал имена на табличке, имена тех, кто обратился в пепел в тот день, когда занялись огнем хаты, оглядывался хмуро и опять останавливал взгляд на табличке. И тут голос колоколов напоминал ему, что жил, жил здесь другой Жора, однофамилец, однолеток и что нет его, нет. Этот реквием из безлюдного села постоянно держал настороже душу Жоры. Он сам чувствовал, что острее смотрит вокруг и радуется каждому шагу и каждому вздоху. Любая малость на палевой от солнца земле — трава, или ящерка, или птенец с открытым ртом, похожим на бутон, — бросалась в глаза. Еще с рассвета, когда роса так зерниста и крупна, что похожа на град, он косою рушил луговую поросль, останавливался и поджимал то одну, то другую ногу, точно согревая о взмокшие, ставшие брезентовыми штанины. «Идите, идите к партизанам», — мысленно говорил он ребятам, дружкам своим, а сам все пускал серебристое жало во влажную траву. Потом оглядывал стриженый луг. А потом даже поспал на покосе. Но и на рассвете, и после косьбы он все не отказывался от той мысли, которая стала его тайным планом: днем поехать в Минск, в ту клинику, в которой лежит старик Каминский. Да, выйти на дорогу, где еще слышен звон из Хатыни, сесть в автобус — и в Минск, в близкую столицу, в клинику, к старому Каминскому, которому так трудно жить в свои восемьдесят лет. Каминский один уцелел из всей Хатыни, один вырвался из огня, одного его миновали фашистские пули, один он видит столько лет, столько дней ту казнь, тот пожар, один он различает знакомые голоса и крики в звоне колоколов... И уже готовый в дорогу, хотя не сейчас ему ехать, в светлой рубашке, в штанах, подсохших от росы, в баскетбольных кедах, Жора поднялся в траве — и тень тут же спряталась под него, обратилась в пятнышко. И, откинув упругие волосы, опять вернувшиеся в положение козырька, Жора подумал о необходимости своей тайной поездки. Каминский, может, прояснеет мшистым лицом, едва он, Жора, скажет ему... скажет про дружков, ушедших на партизанскую базу, и про себя, оставшегося в дозоре, и про то, как сновала коса в спелой траве. А что еще он скажет, чем поможет единственному из всей Хатыни старому сироте? Солнце стояло над головой, а второе солнце било с земли, с хатынской улицы. И когда это второе, отраженное стеклами автобуса, мерцающее солнце остановило свой бег, когда гномами посыпались из автобуса приезжие, то Жора поспешил напрямик, по траве, навстречу приезжим. Всегда с теми, кто приезжал слушать плач колоколов, был экскурсовод. Но и он, Жора, чувствовал за собою право быть вожатым по этой необитаемой деревне: его будили колокола, ему звонили они отбой, он жил, он рос в соседней деревне под этот перезвон. И как только он оказался среди прибывших ребят, как только различил польскую речь, то посмотрел в строгие, омраченные этим видением, этим звоном лица ребят с готовностью быть им нужным. И один из ребят, одетый в защитный, полувоенный какой-то костюмчик, напоминающий форму десантников, приветливо взглянул на него, придвинулся к нему и даже кивнул. И Жора тоже кивнул этому гостю, понравившемуся ему и одеждой, и серьезным выражением удивленного и как будто свежеумытого лица, и стал незаметно, искоса следить за гостем. И когда Жора повернулся и взглянул близко в свежее лицо гостя, тот дружелюбно протянул руку: — Збигнев. А ты? А он? Жора осмотрелся и лишь теперь заметил, что молчаливая толпа приникла как раз к тому нежилому двору, где жил когда-то Жорин однофамилец и однолеток. И он взял Збигнева, притянул к себе, и подвел к табличке у распахнутой калитки, и, обращаясь со Збигневом как с иностранцем, прочертил пальцем по табличке, а потом еще и назвал себя вслух, постучав по своей груди. Лицо Збигнева озарилось мгновенным грустным пониманием, он опять кивнул и тут же, сосредоточась на чем-то своем, отстегнул пуговичку нагрудного кармана, извлек фотографию и молча протянул ему. Точно спустился десантник на землю и в качестве условного знака, безмолвного пароля протянул фотографию. И когда увидел Жора на снимке унылого, мрачного, голодного, должно быть, мальчика в полосатом облачении концлагерей, он тоже все понял без слов... И спросил у Збигнева с ломаной какой-то интонацией, так говорят с иностранцем, с непонимающим: — Из Варшавы? — Из Лодзи, — охотно возразил тот и сразу же, на удивление чисто, стал говорить по-русски, какой прекрасный город Лодзь, хотя и Варшава прекрасный город, |








