Юный Натуралист 1979-09, страница 11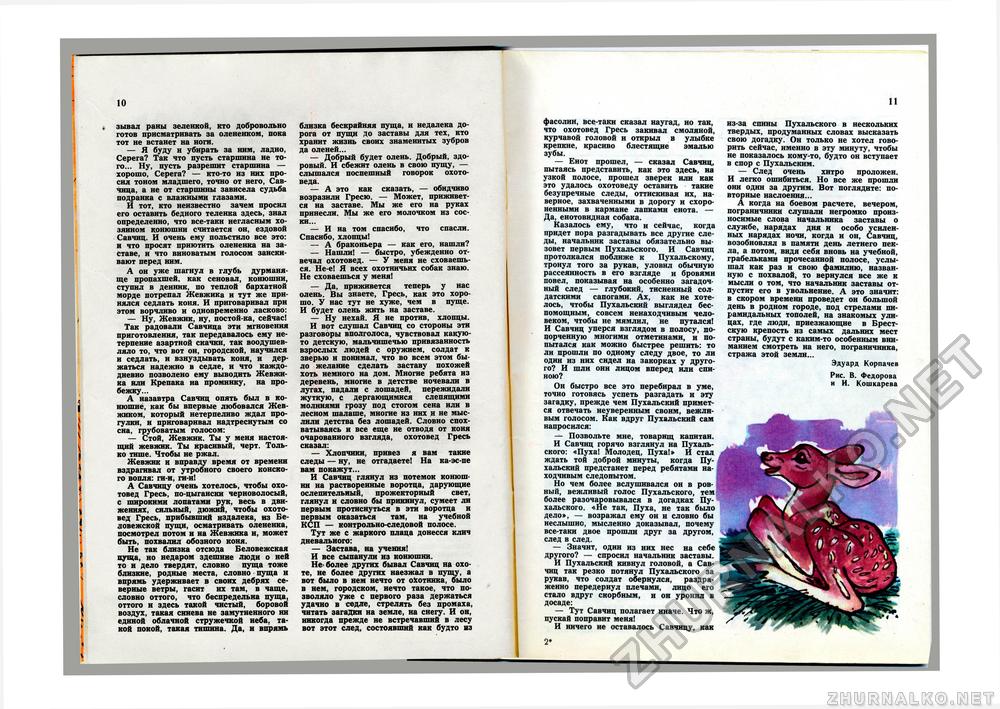
10 11 зывал раны зеленкой, кто добровольно готов присматривать за олененком, пока тот не встанет на ноги. — Я буду и убирать за ним, ладно, Серега? Так что пусть старшина не того... Ну, пусть разрешит старшина — хорошо, Серега? — кто-то из них просил тоном младшего, точно от него, Сав-чица, а не от старшины зависела судьба подранка с влажными глазами. И тот, кто неизвестно зачем просил его оставить бедного теленка здесь, знал определенно, что все-таки негласным хозяином конюшни считается он, ездовой Савчиц. И очень ему польстило все это: и что просят приютить олененка на заставе, и что виноватым голосом заискивают перед ним. А он уже шагнул в глубь дурманяще пропахшей, как сеновал, конюшни, ступил в денник, по теплой бархатной морде потрепал Жевжика и тут же принялся седлать коня. И приговаривал при этом ворчливо н одновременно ласково: — Ну, Жевжик, ну, постой-ка, сейчас! Так радовали Савчица эти мгновения приготовления, так передавалось ему нетерпение азартной скачкн, так воодушевляло то, что вот он, городской, научился и седлать, и взнуздывать коня, и держаться надежно в седле, и что каждодневно позволено ему выводить Жевжика или Крепака на проминку, на пробежку... А назавтра Савчиц опять был в конюшне, как бы впервые любовался Жев-жиком, который нетерпеливо ждал прогулки, и приговаривал надтреснутым со сна, грубоватым голосом: — Стой, Жевжик. Ты у меня настоящий жевжнк. Ты красивый, черт. Только тише. Чтобы не ржал. Жевжик и вправду время от времени вздрагивал от утробного своего конского вопля: ги-н, ги-и! А Савчицу очень хотелось, чтобы охотовед Гресь, по-цыгански черноволосый, с широкими лопатами рук, весь в движениях, сильный, дюжий, чтобы охотовед Гресь, прибывший издалека, из Беловежской пущи, осматривать олененка, посмотрел потом и на Жевжика и, может быть, похвалил обозного коня. Не так близка отсюда Беловежская пуща, но недаром здешние люди о ней то и дело твердят, словно пуща тоже близкие, родные места, словно пуща и впрямь удерживает в своих дебрях северные ветры, гасит их там, в чаще, словно оттого, что беспредельна пуща, оттого и здесь такой чистый, боровой воздух, такая синева не замутненного ни единой облачной стружечкой неба, такой покой, такая тишина. Да, и впрямь близка бескрайняя пуща, и недалека дорога от пущн до заставы для тех, кто хранит жизнь своих знаменитых зубров да оленей... — Добрый будет олень. Добрый, здоровый. И сбежит олень в свою пущу, — слышался поспешный говорок охотоведа. — А это как сказать, — обидчиво возразили Гресю. — Может, приживется на заставе. Мы же его на руках принесли. Мы же его молочком из соски... — И на том спасибо, что спасли. Спасибо, хлопцы! — А браконьера — как его, нашли? — Нашли! — быстро, убежденно отвечал охотовед. — У меня не сховаешь-ся. Не-е! Я всех охотничьих собак знаю. Не сховаешься у меня! — Да, приживется теперь у нас олень. Вы знаете, Гресь, как это хорошо. У нас тут не хуже, чем в пуще. И будет олень жить на заставе. — Ну нехай. Я не против, хлопцы. И вот слушал Савчиц со стороны эти разговоры вполголоса, чувствовал какую-то детскую, мальчишечью привязанность взрослых людей с оружием, солдат к зверью и понимал, что во всем этом было желание сделать заставу похожей хоть немного на дом. Многие ребята из деревень, многие в детстве ночевали в лугах, падали с лошадей, пережидали жуткую, с дергающимися слепящими молниями грозу под стогом сена или в лесном шалаше, многие из них и не мыслили детства без лошадей. Словно спохватываясь и все еще не отводя от коня очарованного взгляда, охотовед Гресь сказал: — Хлопчики, привез я вам такие следы — ну, не отгадаете! На ка-эс-пе вам покажут... И Савчиц глянул из потемок конюшни на растворенные воротца, дарующие ослепительный, прожекторный свет, глянул и словно бы прикинул, сумеет ли первым протиснуться в эти воротца и первым оказаться там, на учебной КСП — контрольно-следовой полосе. Тут же с жаркого плаца донесся клич дневального: — Застава, на учения! И все сыпанули из конюшни. Не> более других бывал Савчиц на охоте, не более других наезжал в пущу, а вот было в нем нечто от охотника, было в нем, городском, нечто такое, что позволяло уже с первого раза держаться удачно в седле, стрелять без промаха, читать загадки на земле, на снегу. И он, никогда прежде не встречавший в лесу вот этот след, состоявший как будто из 2* фасолин, все-таки сказал наугад, но так, что охотовед Гресь закивал смоляной, курчавой головой и открыл в улыбке крепкие, красиво блестящие эмалью зубы. — Енот прошел, — сказал Савчиц, пытаясь представить, как это здесь, на узкой полосе, прошел зверек или как это удалось охотоведу оставить такие безупречные следы, оттискивая их, наверное, захваченными в дорогу и схороненными в кармане лапками енота. — Да, енотовидная собака. Казалось ему, что и сейчас, когда придет пора разгадывать все другие следы, начальник заставы обязательно вызовет первым Пухальского. И Савчиц протолкался поближе к Пухальскому, тронул того за рукав, уловил обычную рассеянность в его взгляде и бровями повел, показывая на особенно загадочный след — глубокий, тисненный солдатскими сапогами. Ах, как не хотелось, чтобы Пухальский выглядел беспомощным, совсем ненаходчивым человеком, чтобы не мямлил, не путался! И Савчиц уперся взглядом в полосу, попорченную многими отметинами, и попытался как можно быстрее решить: то ли прошли по одному следу двое, то ли один из них сидел на закорках у другого? И шли они лицом вперед или спиною? Он быстро все это перебирал в уме, точно готовясь успеть разгадать и эту загадку, прежде чем Пухальский примется отвечать неуверенным своим, вежливым голосом. Как вдруг Пухальский сам напросился: — Позвольте мне, товарищ капитан. И Савчиц горячо взглянул на Пухальского: «Пуха! Молодец, Пуха!» И стал ждать той доброй минуты, когда Пухальский предстанет перед ребятами находчивым следопытом. Но чем более вслушивался он в ровный, вежливый голос Пухальского, тем более разочаровывался в догадках Пухальского. «Не так, Пуха, не так было дело», — возражал ему он и словно бы неслышно, мысленно доказывал, почему все-таки двое прошли друг за другом, след в след. — Значит, один из них нес на себе другого? — спросил начальник заставы. И Пухальский кивнул головой, а Савчиц так резко потянул Пухальского за рукав, что солдат обернулся, раздраженно передернул плечами, лицо его стало вдруг скорбным, и он уронил в досаде: — Тут Савчиц полагает иначе. Что ж, пускай поправит меня! И ничего не оставалось Савчицу, как из-за спины Пухальского в нескольких твердых, продуманных словах высказать свою догадку. Он только не хотел говорить сейчас, именно в эту минуту, чтобы не показалось кому-то, будто он вступает в спор с Пухальским. — След очень хитро проложен. И легко ошибиться. Но все же прошли они один за другим. Вот поглядите: повторные наслоения... А когда на боевом расчете, вечером, пограничники слушали негромко произносимые слова начальника заставы о службе, нарядах дня и особо усиленных нарядах ночи, когда и он, Савчиц, возобновлял в памяти день летнего пекла, а потом, видя себя вновь на учебной, грабельками прочесанной полосе, услышал как раз и свою фамилию, названную с похвалой, то вернулся все же к мысли о том, что начальник заставы отпустит его в увольнение. А это значит: в скором времени проведет он большой день в родном городе, под стрелами пирамидальных тополей, на знакомых улицах, где люди, приезжающие в Брестскую крепость из самых дальних мест страны, будут с каким-то особенным вниманием смотреть на него, пограничника, стража этой земли... Эдуард Корпачев Рис. В. Федорова и И. Кошкарева |








