Юный Натуралист 1986-10, страница 48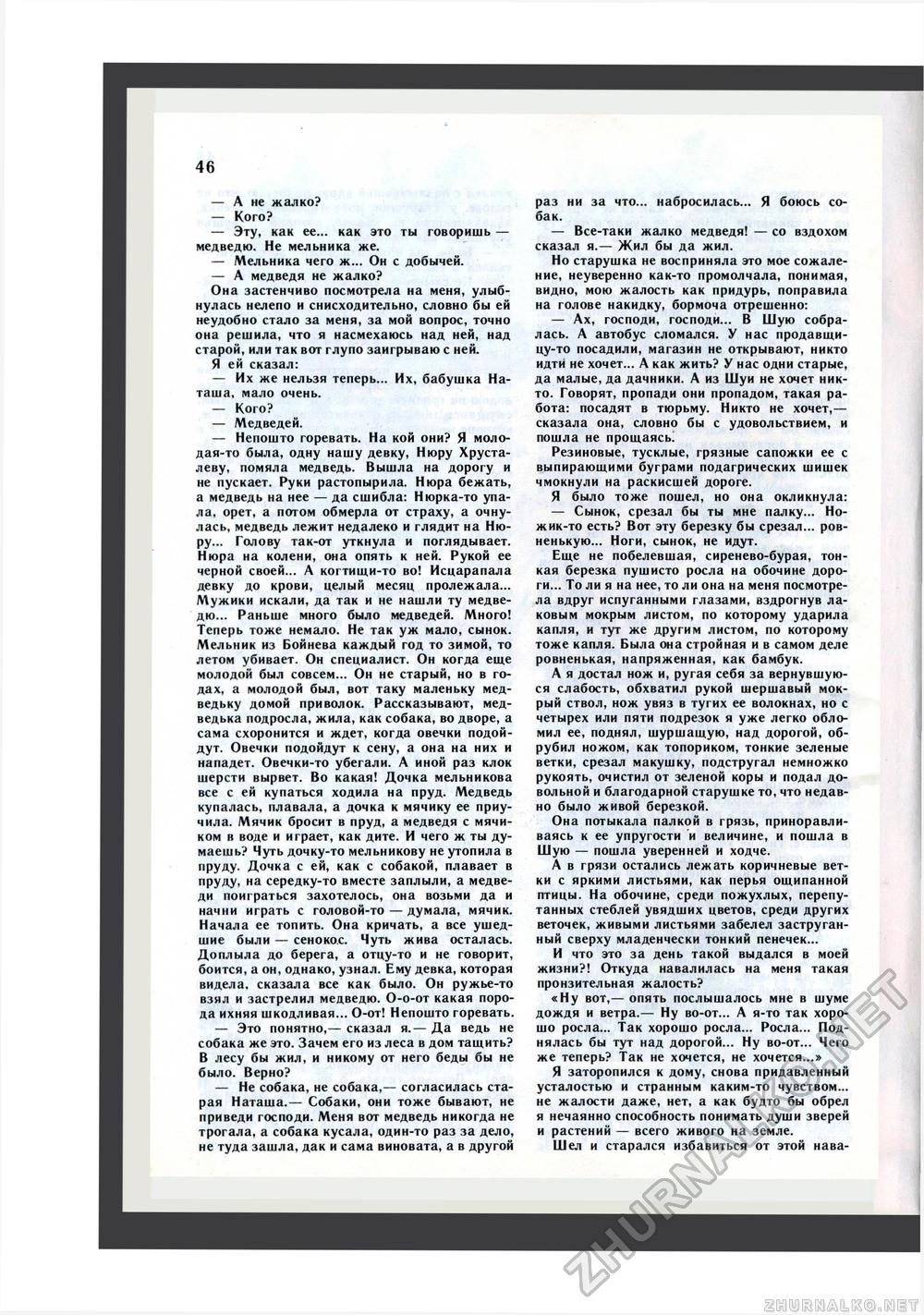
46 — А не жалко? — Кого? — Эту, как ее... как это ты говоришь — медведю. Не мельника же. — Мельника чего ж... Он с добычей. — А медведя не жалко? Она застенчиво посмотрела на меня, улыбнулась нелепо и снисходительно, словно бы ей неудобно стало за меня, за мой вопрос, точно она решила, что я насмехаюсь над ней, над старой, или так вот глупо заигрываю с ней. Я ей сказал: — Их же нельзя теперь... Их, бабушка Наташа, мало очень. — Кого? — Медведей. — Непошто горевать. На кой они? Я молодая-то была, одну нашу девку, Нюру Хруста-леву, помяла медведь. Вышла на дорогу и не пускает. Руки растопырила. Нюра бежать, а медведь на нее — да сшибла: Нюрка-то упала. орет, а потом обмерла от страху, а очнулась, медведь лежит недалеко и глядит на Нюру... Голову так-от уткнула и поглядывает. Нюра на колени, она опять к ней. Рукой ее черной своей... А когтищи-то во! Исцарапала девку до крови, целый месяц пролежала... Мужики искали, да так и не нашли ту медведю... Раньше много было медведей. Много! Теперь тоже немало. Не так уж мало, сынок. Мельник из Бойнева каждый год то зимой, то летом убивает. Он специалист. Он когда еще молодой был совсем... Он не старый, но в годах, а молодой был, вот таку маленьку мед-ведьку домой приволок. Рассказывают, мед-ведька подросла, жила, как собака, во дворе, а сама схоронится и ждет, когда овечки подойдут. Овечки подойдут к сену, а она на них и нападет. Овечки-то убегали. А иной раз клок шерсти вырвет. Во какая! Дочка Мельникова все с ей купаться ходила на пруд. Медведь купалась, плавала, а дочка к мячику ее приучила. Мячик бросит в пруд, а медведя с мячиком в воде и играет, как дите. И чего ж ты думаешь? Чуть дочку-то Мельникову не утопила в пруду. Дочка с ей, как с собакой, плавает в пруду, на середку-то вместе заплыли, а медведи поиграться захотелось, она возьми да и начни играть с головой-то — думала, мячик. Начала ее топить. Она кричать, а все ушедшие были — сенокос. Чуть жива осталась. Доплыла до берега, а отцу-то и не говорит, боится, а он, однако, узнал. Ему девка, которая видела, сказала все как было. Он ружье-то взял и застрелил медведю. О-о-от какая порода ихняя шкодливая... О-от! Непошто горевать. — Это понятно,— сказал я.— Да ведь не собака же это. Зачем его из леса в дом тащить? В лесу бы жил, и никому от него беды бы не было. Верно? — Не собака, не собака,— согласилась старая Наташа.— Собаки, они тоже бывают, не приведи господи. Меня вот медведь никогда не трогала, а собака кусала, один-то раз за дело, не туда зашла, дак и сама виновата, а в другой раз ни за что... набросилась... Я боюсь собак. — Все-таки жалко медведя! — со вздохом сказал я.— Жил бы да жил. Но старушка не восприняла это мое сожаление, неуверенно как-то промолчала, понимая, видно, мою жалость как придурь, поправила на голове накидку, бормоча отрешенно: — Ах, господи, господи... В Шую собралась. А автобус сломался. У нас продавщи-цу-то посадили, магазин не открывают, никто идти не хочет... А как жить? У нас одни старые, да малые, да дачники. А из Шуи не хочет никто. Говорят, пропади они пропадом, такая работа: посадят в тюрьму. Никто не хочет,— сказала она, словно бы с удовольствием, и пошла не прощаясь. Резиновые, тусклые, грязные сапожки ее с выпирающими буграми подагрических шишек чмокнули на раскисшей дороге. Я было тоже пошел, но она окликнула: — Сынок, срезал бы ты мне палку... Ножик-то есть? Вот эту березку бы срезал... ровненькую... Ноги, сынок, не идут. Еще не побелевшая, сиренево-бурая, тонкая березка пушисто росла на обочине дороги... То ли я на нее, то ли она на меня посмотрела вдруг испуганными глазами, вздрогнув лаковым мокрым листом, по которому ударила капля, и тут же другим листом, по которому тоже капля. Была она стройная и в самом деле ровненькая, напряженная, как бамбук. А я достал нож и, ругая себя за вернувшуюся слабость, обхватил рукой шершавый мокрый ствол, нож увяз в тугих ее волокнах, но с четырех или пяти подрезок я уже легко обломил ее, поднял, шуршащую, над дорогой, обрубил ножом, как топориком, тонкие зеленые ветки, срезал макушку, подстругал немножко рукоять, очистил от зеленой коры и подал довольной и благодарной старушке то, что недавно было живой березкой. Она потыкала палкой в грязь, приноравливаясь к ее упругости и величине, и пошла в Шую — пошла уверенней и ходче. А в грязи остались лежать коричневые ветки с яркими листьями, как перья ощипанной птицы. На обочине, среди пожухлых, перепутанных стеблей увядших цветов, среди других веточек, живыми листьями забелел заструганный сверху младенчески тонкий пенечек... И что это за день такой выдался в моей жизни?! Откуда навалилась на меня такая пронзительная жалость? «Ну вот,— опять послышалось мне в шуме дождя и ветра.— Ну во-от... А я-то так хорошо росла... Так хорошо росла... Росла... Поднялась бы тут над дорогой... Ну во-от... Чего же теперь? Так не хочется, не хочется...» Я заторопился к дому, снова придавленный усталостью и странным каким-то чувством... не жалости даже, нет, а как будто бы обрел я нечаянно способность понимать души зверей и растений — всего живого на земле. Шел и старался избавиться от этой нава |








