Юный Натуралист 1986-10, страница 47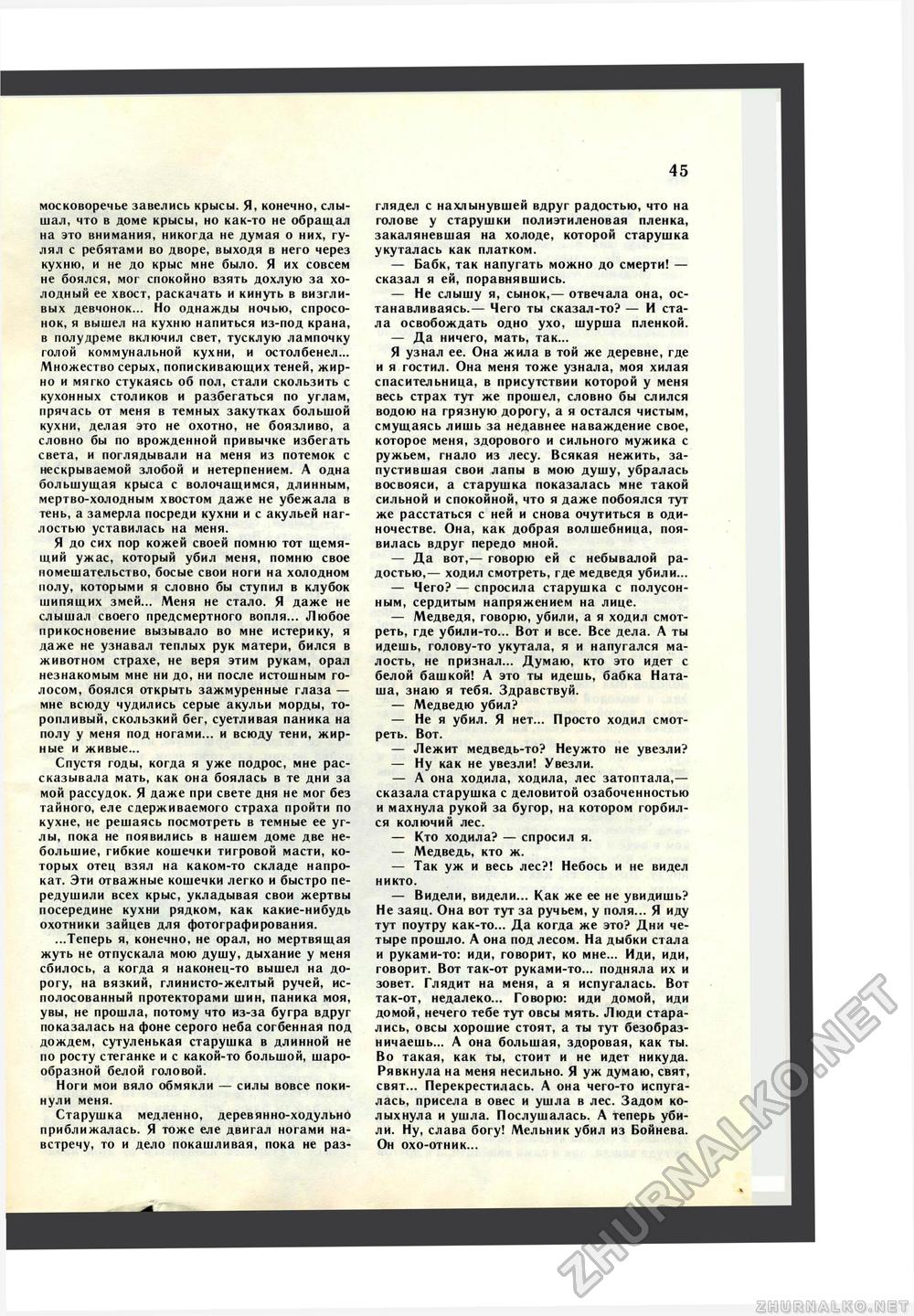
45 московоречье завелись крысы. Я. конечно, слышал, что в доме крысы, но как-то не обращал на это внимания, никогда не думая о них, гулял с ребятами во дворе, выходя в него через кухню, и не до крыс мне было. Я их совсем не боялся, мог спокойно взять дохлую за холодный ее хвост, раскачать и кинуть в визгливых девчонок... Но однажды ночью, спросонок, я вышел на кухню напиться из-под крана, в полудреме включил свет, тусклую лампочку голой коммунальной кухни, и остолбенел... Множество серых, попискивающих теней, жирно и мягко стукаясь об пол, стали скользить с кухонных столиков и разбегаться по углам, прячась от меня в темных закутках большой кухни, делая это не охотно, не боязливо, а словно бы по врожденной привычке избегать света, и поглядывали на меня из потемок с нескрываемой злобой и нетерпением. А одна большущая крыса с волочащимся, длинным, мертво-холодным хвостом даже не убежала в тень, а замерла посреди кухни и с акульей наглостью уставилась на меня. Я до сих пор кожей своей помню тот щемящий ужас, который убил меня, помню свое помешательство, босые свои ноги на холодном полу, которыми я словно бы ступил в клубок шипящих змей... Меня не стало. Я даже не слышал своего предсмертного вопля... Любое прикосновение вызывало во мне истерику, я даже не узнавал теплых рук матери, бился в животном страхе, не веря этим рукам, орал незнакомым мне ни до, ни после истошным голосом, боялся открыть зажмуренные глаза — мне всюду чудились серые акульи морды, торопливый, скользкий бег, суетливая паника на полу у меня под ногами... и всюду тени, жирные и живые... Спустя годы, когда я уже подрос, мне рассказывала мать, как она боялась в те дни за мой рассудок. Я даже при свете дня не мог без тайного, еле сдерживаемого страха пройти по кухне, не решаясь посмотреть в темные ее углы, пока не появились в нашем доме две небольшие, гибкие кошечки тигровой масти, которых отец взял на каком-то складе напрокат. Эти отважные кошечки легко и быстро передушили всех крыс, укладывая свои жертвы посередине кухни рядком, как какие-нибудь охотники зайцев для фотографирования. ...Теперь я, конечно, не орал, но мертвящая жуть не отпускала мою душу, дыхание у меня сбилось, а когда я наконец-то вышел на дорогу, на вязкий, глинисто-желтый ручей, исполосованный протекторами шин, паника моя, увы, не прошла, потому что из-за бугра вдруг показалась на фоне серого неба согбенная под дождем, сутуленькая старушка в длинной не по росту стеганке и с какой-то большой, шарообразной белой головой. Ноги мои вяло обмякли — силы вовсе покинули меня. Старушка медленно, деревянно-ходульно приближалась. Я тоже еле двигал ногами навстречу, то и дело покашливая, пока не раз глядел с нахлынувшей вдруг радостью, что на голове у старушки полиэтиленовая пленка, закаляневшая на холоде, которой старушка укуталась как платком. — Бабк, так напугать можно до смерти! — сказал я ей, поравнявшись. — Не слышу я, сынок,— отвечала она, останавливаясь.— Чего ты сказал-то? — И стала освобождать одно ухо, шурша пленкой. — Да ничего, мать, так... Я узнал ее. Она жила в той же деревне, где и я гостил. Она меня тоже узнала, моя хилая спасительница, в присутствии которой у меня весь страх тут же прошел, словно бы слился водою на грязную дорогу, а я остался чистым, смущаясь лишь за недавнее наваждение свое, которое меня, здорового и сильного мужика с ружьем, гнало из лесу. Всякая нежить, запустившая свои лапы в мою душу, убралась восвояси, а старушка показалась мне такой сильной и спокойной, что я даже побоялся тут же расстаться с ней и снова очутиться в одиночестве. Она, как добрая волшебница, появилась вдруг передо мной. — Да вот,— говорю ей с небывалой радостью,— ходил смотреть, где медведя убили... — Чего? — спросила старушка с полусонным, сердитым напряжением на лице. — Медведя, говорю, убили, а я ходил смотреть, где убили-то... Вот и все. Все дела. А ты идешь, голову-то укутала, я и напугался малость, не признал... Думаю, кто это идет с белой башкой! А это ты идешь, бабка Наташа, знаю я тебя. Здравствуй. — Медведю убил? — Не я убил. Я нет... Просто ходил смотреть. Вот. — Лежит медведь-то? Неужто не увезли? — Ну как не увезли! Увезли. — А она ходила, ходила, лес затоптала,— сказала старушка с деловитой озабоченностью и махнула рукой за бугор, на котором горбился колючий лес. — Кто ходила? — спросил я. — Медведь, кто ж. — Так уж и весь лес?! Небось и не видел никто. — Видели, видели... Как же ее не увидишь? Не заяц. Она вот тут за ручьем, у поля... Я иду тут поутру как-то... Да когда же это? Дни четыре прошло. А она под лесом. На дыбки стала и руками-то: иди, говорит, ко мне... Иди, иди, говорит. Вот так-от руками-то... подняла их и зовет. Глядит на меня, а я испугалась. Вот так-от, недалеко... Говорю: иди домой, иди домой, нечего тебе тут овсы мять. Люди старались, овсы хорошие стоят, а ты тут безобразничаешь... А она большая, здоровая, как ты. Во такая, как ты, стоит и не идет никуда. Рявкнула на меня несильно. Я уж думаю, свят, свят... Перекрестилась. А она чего-то испугалась, присела в овес и ушла в лес. Задом колыхнула и ушла. Послушалась. А теперь убили. Ну, слава богу! Мельник убил из Бойнева. Он охо-отник... |








