Костёр 1967-01, страница 24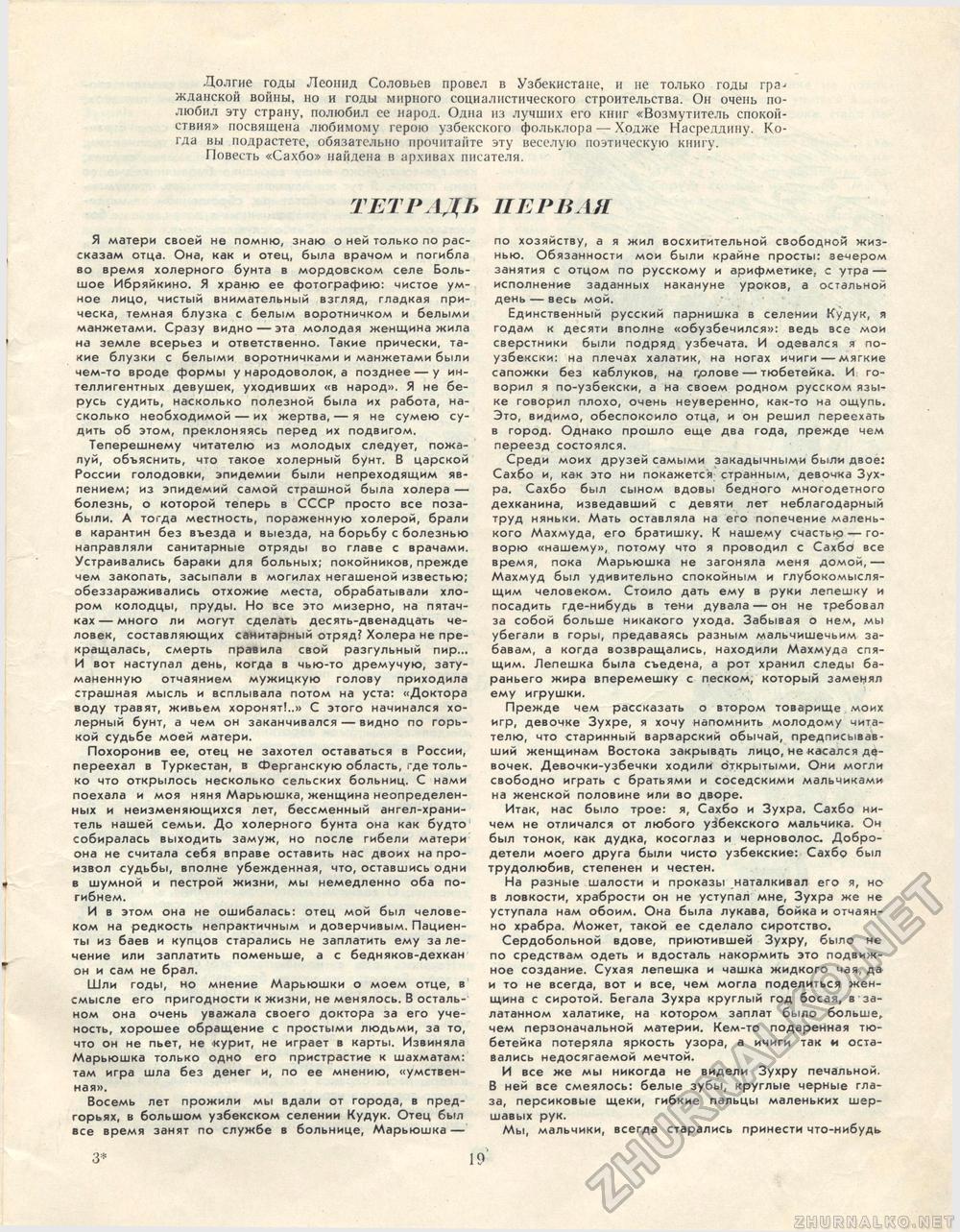
Долгие годы Леонид Соловьев провел в Узбекистане, и не только годы гра^ жданской войны, но и годы мирного социалистического строительства. Он очень полюбил эту страну, полюбил ее народ. Одна из лучших его книг «Возмутитель спокойствия» посвящена любимому герою узбекского фольклора — Ходже Насреддину. Когда вы подрастете, обязательно прочитайте эту веселую поэтическую книгу. Повесть «Сахбо» найдена в архивах писателя. ТЕТР ЛДЬ ПЕ РВАН Я матери своей не помню, знаю о ней только по рассказам отца. Она, как и отец, была врачом и погибла во время холерного бунта в мордовском селе Большое Ибряйкино. Я храню ее фотографию: чистое умное лицо, чистый внимательный взгляд, гладкая прическа, темная блузка с белым воротничком и белыми манжетами. Сразу видно — эта молодая женщина жила на земле всерьез и ответственно. Такие прически, такие блузки с белыми воротничками и манжетами были чем-то вроде формы у народоволок, а позднее — у интеллигентных девушек, уходивших «в народ». Я не берусь судить, насколько полезной была их работа, насколько необходимой — их жертва, — я не сумею судить об этом, преклоняясь перед их подвигом. Теперешнему читателю из молодых следует, пожалуй, объяснить, что такое холерный бунт. В царской России голодовки, эпидемии были непреходящим явлением; из эпидемий самой страшной была холера — болезнь, о которой теперь в СССР просто все позабыли. А тогда местность, пораженную холерой, брали в карантин без въезда и выезда, на борьбу с болезнью направляли санитарные отряды во главе с врачами. Устраивались бараки для больных; покойников, прежде чем закопать, засыпали в могилах негашеной известью; обеззараживались отхожие места, обрабатывали хлором колодцы, пруды. Но все это мизерно, на пятачках— много ли могут сделать десять-двенадцать человек, составляющих санитарный отряд? Холера не прекращалась, смерть правила свой разгульный пир... И вот наступал день, когда в чью-то дремучую, затуманенную отчаянием мужицкую голову приходила страшная мысль и всплывала потом на уста: «Доктора воду травят, живьем хоронят!..» С этого начинался холерный бунт, а чем он заканчивался — видно по горькой судьбе моей матери. Похоронив ее, отец не захотел оставаться в России, переехал в Туркестан, в Ферганскую область, где только что открылось несколько сельских больниц. С нами поехала и моя няня Марьюшка, женщина неопределенных и неизменяющихся лет, бессменный ангел-хранитель нашей семьи. До холерного бунта она как будто1 собиралась выходить замуж, но после гибели матери она не считала себя вправе оставить нас двоих на произвол судьбы, вполне убежденная, что, оставшись одни в шумной и пестрой жизни, мы немедленно оба погибнем. И в этом она не ошибалась: отец мой был человеком на редкость непрактичным и доверчивым. Пациенты из баев и купцов старались не заплатить ему за лечение или заплатить поменьше, а с бедняков-дехкан он и сам не брал. Шли годы, но мнение Марьюшки о моем отце, в смысле его пригодности к жизни, не менялось. В остальном она очень уважала своего доктора за его ученость, хорошее обращение с простыми людьми, за то, что он не пьет, не курит, не играет в карты. Извиняла Марьюшка только одно его пристрастие к шахматам: там игра шла без денег и, по ее мнению, «умственная». Восемь лет прожили мы вдали от города, в предгорьях, в большом узбекском селении Кудук. Отец был все время занят по службе в больнице, Марьюшка — по хозяйству, а я жил восхитительной свободной жизнью. Обязанности мои были крайне просты: вечером занятия с отцом по русскому и арифметике, с утра — исполнение заданных накануне уроков, а остальной день — весь мой. - Единственный русский парнишка в селении Кудук, я годам к десяти вполне «обузбечился»: ведь все мои сверстники были подряд узбечата. И одевался я по-узбекски: на плечах халатик, на ногах ичиги—мягкие сапожки без каблуков, на грлове — тюбетейка. И говорил я по-узбекски, а на своем родном русском языке говорил плохо, очень неуверенно, как-то на ощупь. Это, видимо, обеспокоило отца, и он решил переехать в город. Однако прошло еще два года, прежде чем переезд состоялся. Среди моих друзей самыми закадычными были двое: Сахбо и, как это ни покажется странным, девочка 3ух-ра. Сахбо был сыном вдовы бедного многодетного дехканина, изведавший с девяти лет неблагодарный труд няньки. Мать оставляла на его попечение маленького Махмуда, его братишку. К нашему счастью —говорю «нашему», потому что я проводил с Сахбо все время, пока Марьюшка не загоняла меня домой,— Махмуд был удивительно спокойным и глубокомыслящим человеком. Стоило дать ему в руки лепешку и посадить где-нибудь в тени дуеала— он не требовал за собой больше никакого ухода. Забывая о нем, мы убегали в горы, предаваясь разным мальчишечьим забавам, а когда возвращались, находили Махмуда спящим. Лепешка была съедена, а рот хранил следы бараньего жира вперемешку с песком, который заменял ему игрушки. Прежде чем рассказать о втором товарище моих игр, девочке Зухре, я хочу напомнить молодому читателю, что старинный варварский обычай, предписывавший женщинам Востока закрывать лицо, не касался девочек. Девочки-узбечки ходили открытыми. Они могли свободно играть с братьями и соседскими мальчиками на женской половине или во дворе. Итак, нас было трое: я, Сахбо и Зухра. Сахбо ничем не отличался от любого узбекского мальчика. Он был тонок, как дудка, косоглаз и черноволос. Добродетели моего друга были чисто узбекские: Сахбо был трудолюбив, степенен и честен. На разные шалости и проказы наталкивал его я, но в ловкости, храбрости он не уступал мне, Зухра же не уступала нам обоим. Она была лукава, бойка и отчаянно храбра. Может, такой ее сделало сиротство. Сердобольной вдове, приютившей Зухру, было не по средствам одеть и вдосталь накормить это подвижное создание. Сухая лепешка и чашка жидкого чая, да и то не всегда, вот и все, чем могла поделиться женщина с сиротой. Бегала Зухра круглый год босая, в залатанном халатике, на котором заплат было больше, чем перзоначальной материи. Кем-то подаренная тюбетейка потеряла яркость узора, а ичиги так и оставались недосягаемой мечтой. И все же мы никогда не видели Зухру печальной. В ней все смеялось: белые зубы, круглые черные глаза, персиковые щеки, гибкие пальцы маленьких шершавых рук. Мы, мальчики, всегда старались принести что-нибудь. 19 |








