Костёр 1967-01, страница 28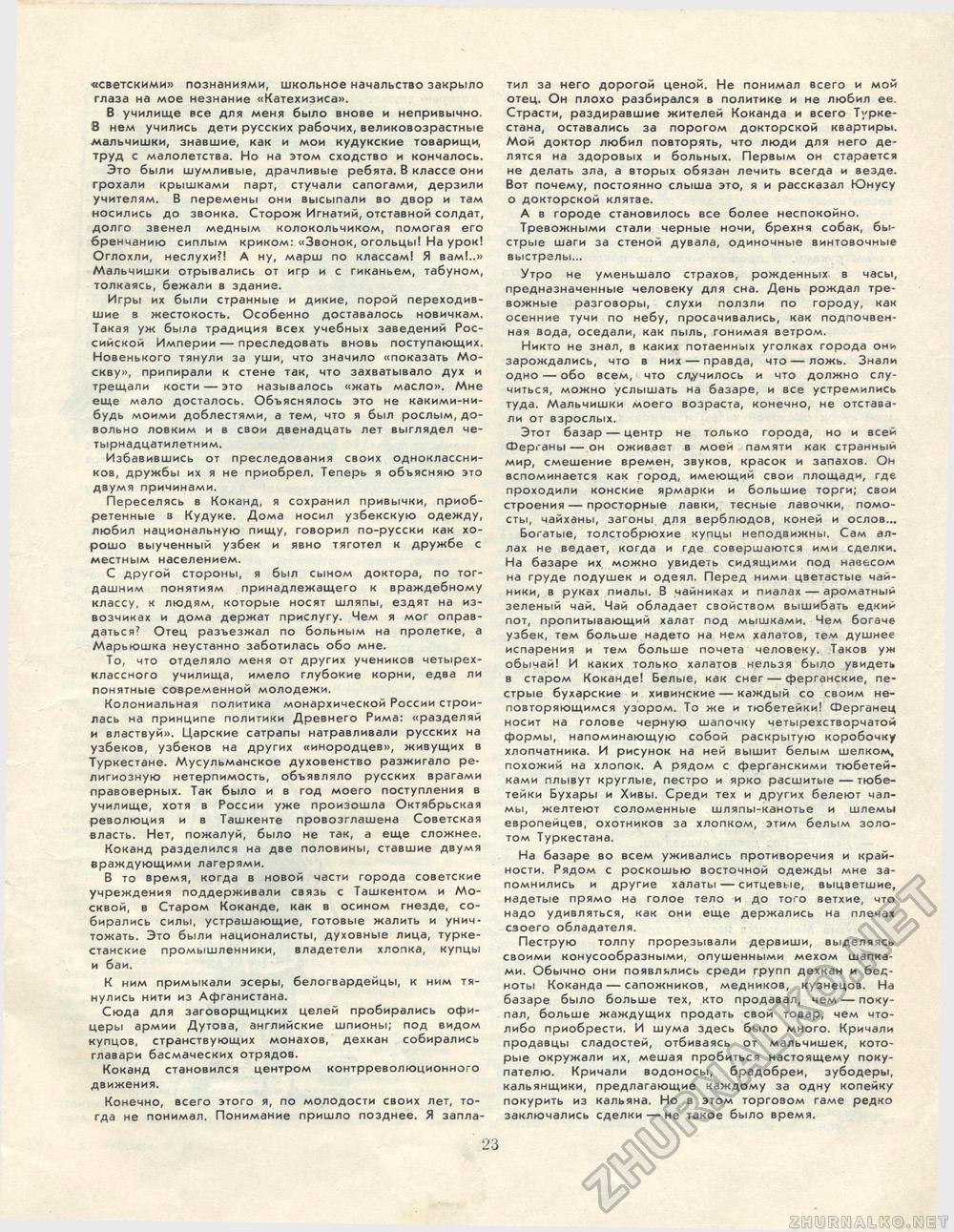
«светскими» познаниями, школьное начальство закрыло глаза на мое незнание «Катехизиса». В училище все для меня было внове и непривычно. В нем учились дети русских рабочих, великовозрастные мальчишки, знавшие, как и мои кудукские товарищи, труд с малолетства. Но на этом сходство и кончалось. Это были шумливые, драчливые ребята. В классе они грохали крышками парт, стучали сапогами, дерзили учителям. В перемены они высыпали во двор и там носились до звонка. Сторож Игнатий, отставной солдат, долго звенел медным колокольчиком, помогая его бренчанию сиплым криком: «Звонок, огольцы! На урок! Оглохли, неслухи?! А ну, марш по классам! Я вам!..» Мальчишки отрывались от игр и с гиканьем, табуном, толкаясь, бежали в здание. Игры их были странные и дикие, порой переходившие в жестокость. Особенно доставалось новичкам. Такая уж была традиция всех учебных заведений Российской Империи — преследовать вновь поступающих. Новенького тянули за уши, что значило «показать Москву», припирали к стене так, что захватывало дух и трещали кости — это называлось «жать масло». Мне еще мало досталось. Объяснялось это не какими-нибудь моими доблестями, а тем, что я был рослым, довольно ловким и в свои двенадцать лет выглядел четырнадцатилетним. Избавившись от преследования своих одноклассников, дружбы их я не приобрел. Теперь я объясняю это двумя причинами. Переселясь в Коканд, я сохранил привычки, приобретенные в Кудуке. Дома носил узбекскую одежду, любил национальную пищу, говорил по-русски как хорошо выученный узбек и явно тяготел к дружбе с местным населением. С другой стороны, я был сыном доктора, по тогдашним понятиям принадлежащего к враждебному классу, к людям, которые носят шляпы, ездят на извозчиках и дома держат прислугу. Чем я мог оправдаться? Отец разъезжал по больным на пролетке, а Марьюшка неустанно заботилась обо мне. То, что отделяло меня от других учеников четырехклассного училища, имело глубокие корни, едва ли понятные современной молодежи. Колониальная политика монархической России строилась на принципе политики Древнего Рима: «разделяй и властвуй». Царские сатрапы натравливали русских на узбеков, узбеков на других «инородцев», живущих в Туркестане. Мусульманское духовенство разжигало религиозную нетерпимость, объявляло русских врагами правоверных. Так было и в год моего поступления в училище, хотя в России уже произошла Октябрьская революция и в Ташкенте провозглашена Советская власть. Нет, пожалуй, было не так, а еще сложнее. Коканд разделился на две половины, ставшие двумя враждующими лагерями. В то время, когда в новой части города советские учреждения поддерживали связь с Ташкентом и Москвой, в Старом Коканде, как в осином гнезде, собирались силы, устрашающие, готовые жалить и уничтожать. Это были националисты, духовные лица, туркестанские промышленники, владетели хлопка, купцы и баи. К ним примыкали эсеры, белогвардейцы, к ним тянулись нити из Афганистана. Сюда для заговорщицких целей пробирались офицеры армии Дутова, английские шпионы; под видом купцов, странствующих монахов, дехкан собирались главари басмаческих отрядов. Коканд становился центром контрреволюционного движения. Конечно, всего этого я, по молодости своих лет, тогда не понимал. Понимание пришло позднее. Я запла тил за него дорогой ценой. Не понимал всего и мой отец. Он плохо разбирался в политике и не любил ее. Страсти, раздиравшие жителей Коканда и всего Туркестана, оставались за порогом докторской квартиры. Мой доктор любил повторять, что люди для него делятся на здоровых и больных. Первым он старается не делать зла, а вторых обязан лечить всегда и везде. Вот почему, постоянно слыша это, я и рассказал Юнусу о докторской клятве. А в городе становилось все более неспокойно. Тревожными стали черные ночи, брехня собак, быстрые шаги за стеной дувала, одиночные винтовочные выстрелы... Утро не уменьшало страхов, рожденных в часы, предназначенные человеку для сна. День рождал тревожные разговоры, слухи ползли по городу, как осенние тучи по небу, просачивались, как подпочвенная вода, оседали, как пыль, гонимая ветром. Никто не знал, в каких потаенных уголках города они зарождались, что в них — правда, что — ложь. Знали одно — обо всем, что сл,училось и что должно случиться, можно услышать на базаре, и все устремились туда. Мальчишки моего возраста, конечно, не отставали от взрослых. Этот базар — центр не только города, но и всей Ферганы — он оживает в моей памяти как странный мир, смешение времен, звуков, красок и запахов. Он вспоминается как город, имеющий свои площади, где проходили конские ярмарки и большие торги; свои строения — просторные лавки, тесные лавочки, помосты, чайханы, загоны для верблюдов, коней и ослов... Богатые, толстобрюхие купцы неподвижны. Сам аллах не ведает, когда и где совершаются ими сделки. На базаре их можно увидеть сидящими под начесом на груде подушек и одеял. Перед ними цветастые чайники, в руках пиалы. В чайниках и пиалах — ароматный зеленый чай. Чай обладает сзойством вышибать едкий пот, пропитывающий халат под мышками. Чем богаче узбек, тем больше надето на нем халатов, тем душнее испарения и тем больше почета человеку. Таков уж обычай! И каких только халатов нельзя было увидеть в старом Коканде! Белые, как снег — ферганские, пестрые бухарские и хивинские — каждый со своим неповторяющимся узором. То же и тюбетейки! Ферганец носит на голове черную шапочку четырехстворчатой формы, напоминающую собой раскрытую коробочку хлопчатника. И рисунок на ней вышит белым шелком, похожий на хлопок. А рядом с ферганскими тюбетейками плывут круглые, пестро и ярко расшитые — тюбетейки Бухары и Хивы. Среди тех и других белеют чалмы, желтеют соломенные шляпы-канотье и шлемы европейцев, охотников за хлопком, этим белым золотом Туркестана. На базаре во всем уживались противоречия и крайности. Рядом с роскошью восточной одежды мне запомнились и другие халаты — ситцевые, выцветшие, надетые прямо на голое тело и до того ветхие, что надо удивляться, как они еще держались на плечах сзоего обладателя. Пеструю толпу прорезывали дервиши, выделяясь своими конусообразными, опушенными мехом шапками. Обычно они появлялись среди групп дехкан и бедноты Коканда — сапожников, медников, кузнецов. На базаре было больше тех, кто продавал, чем — покупал, больше жаждущих продать свой товар, чем что-либо приобрести. И шума здесь было много. Кричали продавцы сладостей, отбиваясь от мальчишек, которые окружали их, мешая пробиться настоящему покупателю. Кричали водоносы, брадобреи, зубодеры, кальянщики, предлагающие каждому за одну копейку покурить из кальяна. Но в этом торговом гаме редко заключались сделки — не такое было время. 23 |








