Костёр 1968-03, страница 24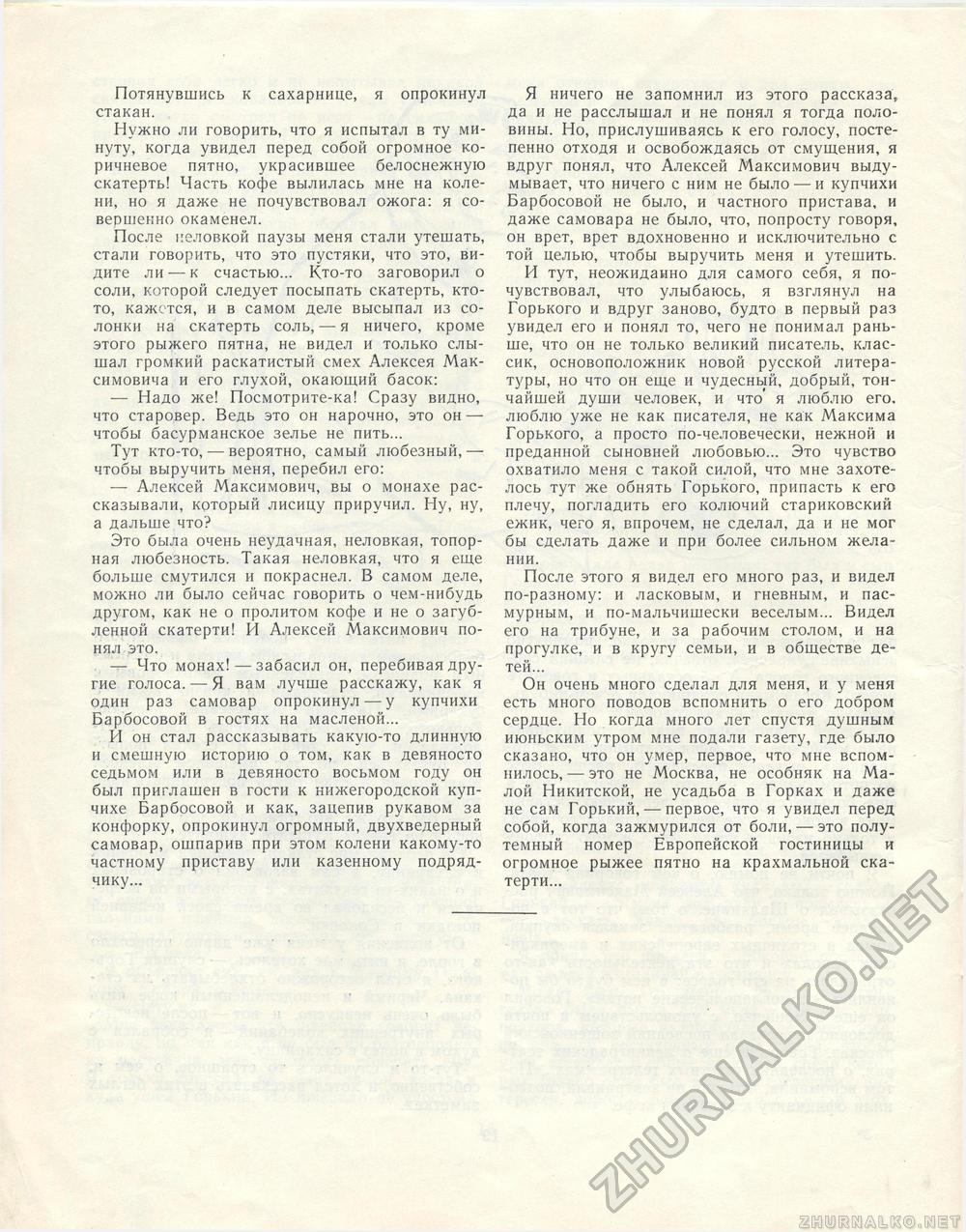
Потянувшись к сахарнице, я опрокинул стакан. Нужно ли говорить, что я испытал в ту минуту, когда увидел перед собой огромное коричневое пятно, украсившее белоснежную скатерть! Часть кофе вылилась мне на колени, но я даже не почувствовал ожога: я совершенно окаменел. После неловкой паузы меня стали утешать, стали говорить, что это пустяки, что это, видите ли — к счастью... Кто-то заговорил о соли, которой следует посыпать скатерть, кто-то, кажется, и в самом деле высыпал из солонки на скатерть соль, — я ничего, кроме этого рыжего пятна, не видел и только слышал громкий раскатистый смех Алексея Максимовича и его глухой, окающий басок: — Надо же! Посмотрите-ка! Сразу видно, что старовер. Ведь это он нарочно, это он — чтобы басурманское зелье не пить... Тут кто-то, — вероятно, самый любезный,— чтобы выручить меня, перебил его: — Алексей Максимович, вы о монахе рассказывали, который лисицу приручил. Ну, ну, а дальше что? Это была очень неудачная, неловкая, топорная любезность. Такая неловкая, что я еще больше смутился и покраснел. В самом деле, можно ли было сейчас говорить о чем-нибудь другом, как не о пролитом кофе и не о загубленной скатерти! И Алексей Максимович понял это. — Что монах!—забасил он, перебивая другие голоса. — Я вам лучше расскажу, как я один раз самовар опрокинул — у купчихи Барбосовой в гостях на масленой... И он стал рассказывать какую-то длинную и смешную историю о том, как в девяносто седьмом или в девяносто восьмом году он был приглашен в гости к нижегородской купчихе Барбосовой и как, зацепив рукавом за конфорку, опрокинул огромный, двухведерный самовар, ошпарив при этом колени какому-то частному приставу или казенному подрядчику... Я ничего не запомнил из этого рассказа, да и не расслышал и не понял я тогда половины. Но, прислушиваясь к его голосу, постепенно отходя и освобождаясь от смущения, я вдруг понял, что Алексей Максимович выдумывает, что ничего с ним не было — и купчихи Барбосовой не было, и частного пристава, и даже самовара не было, что, попросту говоря, он врет, врет вдохновенно и исключительно с той целью, чтобы выручить меня и утешить. И тут, неожиданно для самого себя, я почувствовал, что улыбаюсь, я взглянул на Горького и вдруг заново, будто в первый раз увидел его и понял то, чего не понимал раньше, что он не только великий писатель, клас сик, основоположник новой русской литературы, но что он еще и чудесный, добрый, тончайшей души человек, и что' я люблю его, люблю уже не как писателя, не как Максима Горького, а просто по-человечески, нежной и преданной сыновней любовью... Это чувство охватило меня с такой силой, что мне захотелось тут же обнять Горького, припасть к его плечу, погладить его колючий стариковский ежик, чего я, впрочем, не сделал, да и не мог бы сделать даже и при более сильном желании. После этого я видел его много раз, и видел по-разному: и ласковым, и гневным, и пасмурным, и по-мальчишески веселым... Видел его на трибуне, и за рабочим столом, и на прогулке, и в кругу семьи, и в обществе детей... Он очень много сделал для меня, и у меня есть много поводов вспомнить о его добром сердце. Но когда много лет спустя душным июньским утром мне подали газету, где было сказано, что он умер, первое, что мне вспомнилось,— это не Москва, не особняк на Малой Никитской, не усадьба в Горках и даже не сам Горький, — первое, что я увидел перед собой, когда зажмурился от боли, — это полутемный номер Европейской гостиницы и огромное рыжее пятно на крахмальной скатерти... |








