Костёр 1968-03, страница 57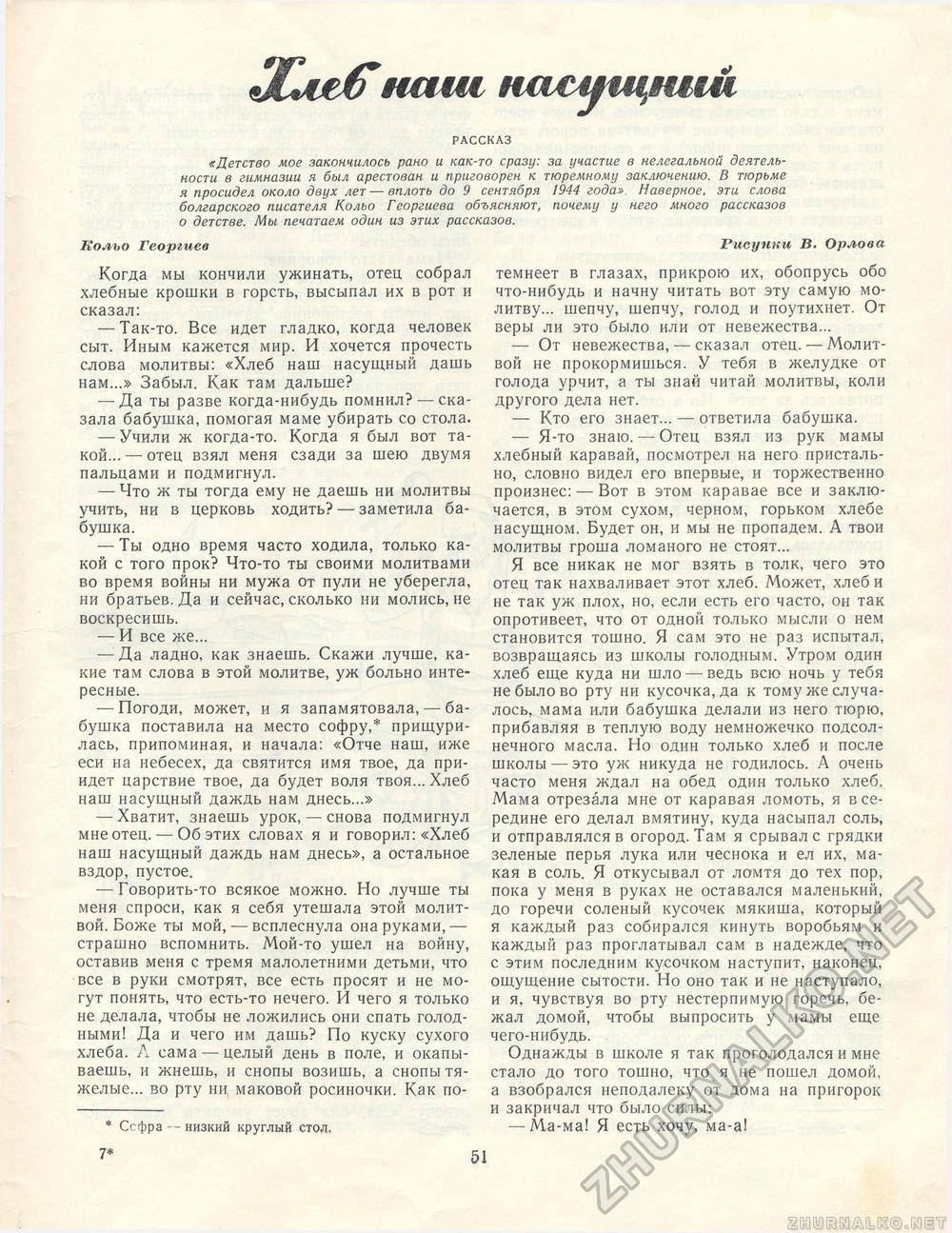
НОШ шшмщшшрассказ <гДетство мое закончилось рано и как-то сразу: за участие в нелегальной деятельности в гимназии я был арестован и приговорен к тюремному заключению. В тюрьме я просидел около двух лет—вплоть до 9 сентября 1944 года». Наверное, эти слова болгарского писателя Кольо Георгиева объясняют, почему у него много рассказов о детстве. Мы печатаем один из этих рассказов. Кольо Георгиев Когда мы кончили ужинать, отец собрал хлебные крошки в горсть, высыпал их в рот и сказал: — Так-то. Все идет гладко, когда человек сыт. Иным кажется мир. И хочется прочесть слова молитвы: «Хлеб наш насущный дашь нам...» Забыл. Как там дальше? — Да ты разве когда-нибудь помнил? — сказала бабушка, помогая маме убирать со стола. — Учили ж когда-то. Когда я был вот такой...— отец взял меня сзади за шею двумя пальцами и подмигнул. — Что ж ты тогда ему не даешь ни молитвы учить, ни в церковь ходить? — заметила бабушка. Ты одно время часто ходила, только какой с того прок? Что-то ты своими молитвами во время войны ни мужа от пули не уберегла, ни братьев. Да и сейчас, сколько ни молись, не воскресишь. И все же... Да ладно, как знаешь. Скажи лучше, какие там слова в этой молитве, уж больно интересные. — Погоди, может, и я запамятовала, — бабушка поставила на место софру,* прищурилась, припоминая, и начала: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да при-идет царствие твое, да будет воля твоя... Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» — Хватит, знаешь урок, — снова подмигнул мне отец. — Об этих словах я и говорил: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», а остальное вздор, пустое. — Говорить-то всякое можно. Но лучше ты меня спроси, как я себя утешала этой молитвой. Боже ты мой, — всплеснула она руками,— страшно вспомнить. Мой-то ушел на войну, оставив меня с тремя малолетними детьми, что все в руки смотрят, все есть просят и не могут понять, что есть-то нечего. И чего я только не делала, чтобы не ложились они спать голодными! Да и чего им дашь? По куску сухого хлеба. Л сама — целый день в поле, и окапываешь, и жнешь, и снопы возишь, а снопы тяжелые... во рту ни маковой росиночки. Как по- * Ссфра — низкий круглый стол, Рисунки В. Орлова темнеет в глазах, прикрою их, обопрусь обо что-нибудь и начну читать вот эту самую молитву... шепчу, шепчу, голод и поутихнет. От веры ли это было или от невежества... — От невежества, — сказал отец. — Молитвой не прокормишься. У тебя в желудке от голода урчит, а ты знай читай молитвы, коли другого дела нет. — Кто его знает... — ответила бабушка. — Я-то знаю. — Отец взял из рук мамы хлебный каравай, посмотрел на него пристально, словно видел его впервые, и торжественно произнес: — Вот в этом каравае все и заключается, в этом сухом, черном, горьком хлебе насущном. Будет он, и мы не пропадем. А твои молитвы гроша ломаного не стоят... Я все никак не мог взять в толк, чего это отец так нахваливает этот хлеб. Может, хлеб и не так уж плох, но, если есть его часто, он так опротивеет, что от одной только мысли о нем становится тошно. Я сам это не раз испытал, возвращаясь из школы голодным. Утром один хлеб еще куда ни шло — ведь всю ночь у тебя не было во рту ни кусочка, да к тому же случалось, мама или бабушка делали из него тюрю, прибавляя в теплую воду немножечко подсолнечного масла. Но один только хлеб и после школы — это уж никуда не годилось. А очень часто меня ждал на обед один только хлеб. Мама отрезала мне от каравая ломоть, я в середине его делал вмятину, куда насыпал соль, и отправлялся в огород. Там я срывал с грядки зеленые перья лука или чеснока и ел их, макая в соль. Я откусывал от ломтя до тех пор, пока у меня в руках не оставался маленький, до горечи соленый кусочек мякиша, который я каждый раз собирался кинуть воробьям и каждый раз проглатывал сам в надежде, что с этим последним кусочком наступит, наконец, ощущение сытости. Но оно так и не наступало, и я, чувствуя во рту нестерпимую горечь, бежал домой, чтобы выпросить у мамы еще чего-нибудь. Однажды в школе я так проголодался и мне стало до того тошно, что я не пошел домой, ф а взобрался неподалеку от дома на пригорок и закричал что было силы: — Ма-ма! Я есть хочу, ма-а! 7* 51 |








