Костёр 1969-12, страница 25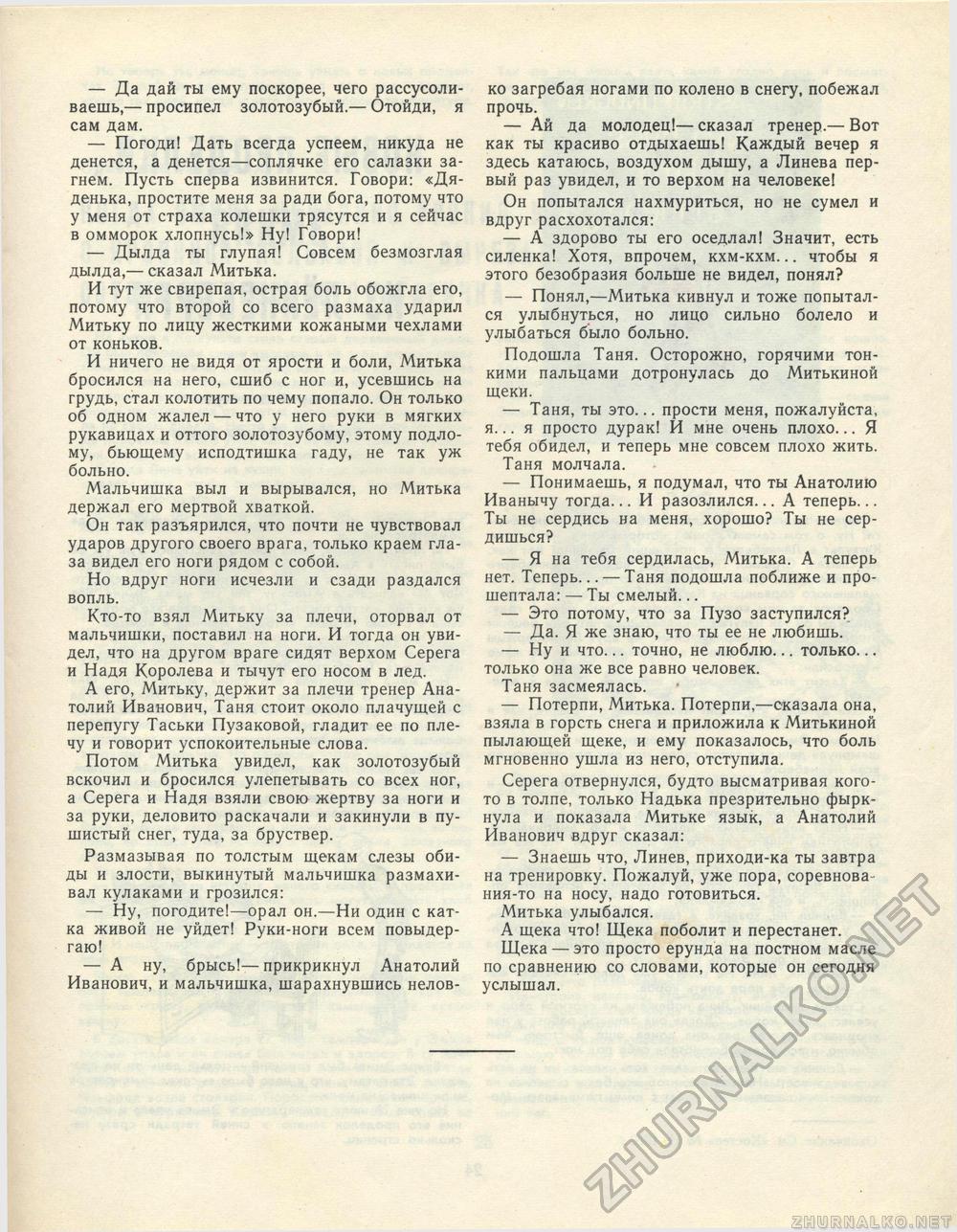
— Да дай ты ему поскорее, чего рассусоливаешь,— просипел золотозубый.— Отойди, я сам дам. — Погоди! Дать всегда успеем, никуда не денется, а денется—соплячке его салазки загнем. Пусть сперва извинится. Говори: «Дяденька, простите меня за ради бога, потому что у меня от страха колешки трясутся и я сейчас в омморок хлопнусь!» Ну! Говори! — Дылда ты глупая! Совсем безмозглая дылда,— сказал Митька. И тут же свирепая, острая боль обожгла его, потому что второй со всего размаха ударил Митьку по лицу жесткими кожаными чехлами от коньков. И ничего не видя от ярости и боли, Митька бросился на него, сшиб с ног и, усевшись на грудь, стал колотить по чему попало. Он только об одном жалел — что у него руки в мягких рукавицах и оттого золотозубому, этому подлому, бьющему исподтишка гаду, не так уж больно. Мальчишка выл и вырывался, но Митька держал его мертвой хваткой. Он так разъярился, что почти не чувствовал ударов другого своего врага, только краем глаза видел его ноги рядом с собой. Но вдруг ноги исчезли и сзади раздался вопль. Кто-то взял Митьку за плечи, оторвал от мальчишки, поставил на ноги. И тогда он увидел, что на другом враге сидят верхом Серега и Надя Королева и тычут его носом в лед. А его, Митьку, держит за плечи тренер Анатолий Иванович, Таня стоит около плачущей с перепугу Таськи Пузаковой, гладит ее по плечу и говорит успокоительные слова. Потом Митька увидел, как золотозубый вскочил и бросился улепетывать со всех ног, а Серега и Надя взяли свою жертву за ноги и за руки, деловито раскачали и закинули в пушистый снег, туда, за бруствер. Размазывая по толстым щекам слезы обиды и злости, выкинутый мальчишка размахивал кулаками и грозился: — Ну, погодите!—орал он.—Ни один с катка живой не уйдет! Руки-ноги всем повыдергаю! — А ну, брысь!—прикрикнул Анатолий Иванович, и мальчишка, шарахнувшись нелов ко загребая ногами по колено в снегу, побежал прочь. — Ай да молодец!—сказал тренер.— Вот как ты красиво отдыхаешь! Каждый вечер я здесь катаюсь, воздухом дышу, а Линева первый раз увидел, и то верхом на человеке! Он попытался нахмуриться, но не сумел и вдруг расхохотался: — А здорово ты его оседлал! Значит, есть силенка! Хотя, впрочем, кхм-кхм... чтобы я этого безобразия больше не видел, понял? — Понял,—Митька кивнул и тоже попытался улыбнуться, но лицо сильно болело и улыбаться было больно. Подошла Таня. Осторожно, горячими тонкими пальцами дотронулась до Митькиной щеки. — Таня, ты это... прости меня, пожалуйста, я... я просто дурак! И мне очень плохо... Я тебя обидел, и теперь мне совсем плохо жить. Таня молчала. — Понимаешь, я подумал, что ты Анатолию Иванычу тогда... И разозлился... А теперь... Ты не сердись на меня, хорошо? Ты не сердишься? — Я на тебя сердилась, Митька. А теперь нет. Теперь... — Таня подошла поближе и прошептала: — Ты смелый... — Это потому, что за Пузо заступился? — Да. Я же знаю, что ты ее не любишь. — Ну и что... точно, не люблю... только... только она же все равно человек. Таня засмеялась. — Потерпи, Митька. Потерпи,—сказала она, взяла в горсть снега и приложила к Митькиной пылающей щеке, и ему показалось, что боль мгновенно ушла из него, отступила. Серега отвернулся, будто высматривая кого-то в толпе, только Надька презрительно фыркнула и показала Митьке язык, а Анатолий Иванович вдруг сказал: — Знаешь что, Линев, приходи-ка ты завтра на тренировку. Пожалуй, уже пора, соревнования-то на носу, надо готовиться. Митька улыбался. А щека что! Щека поболит и перестанет. Щека — это просто ерунда на постном масле по сравнению со словами, которые он сегодня услышал. |








