Костёр 1972-01, страница 30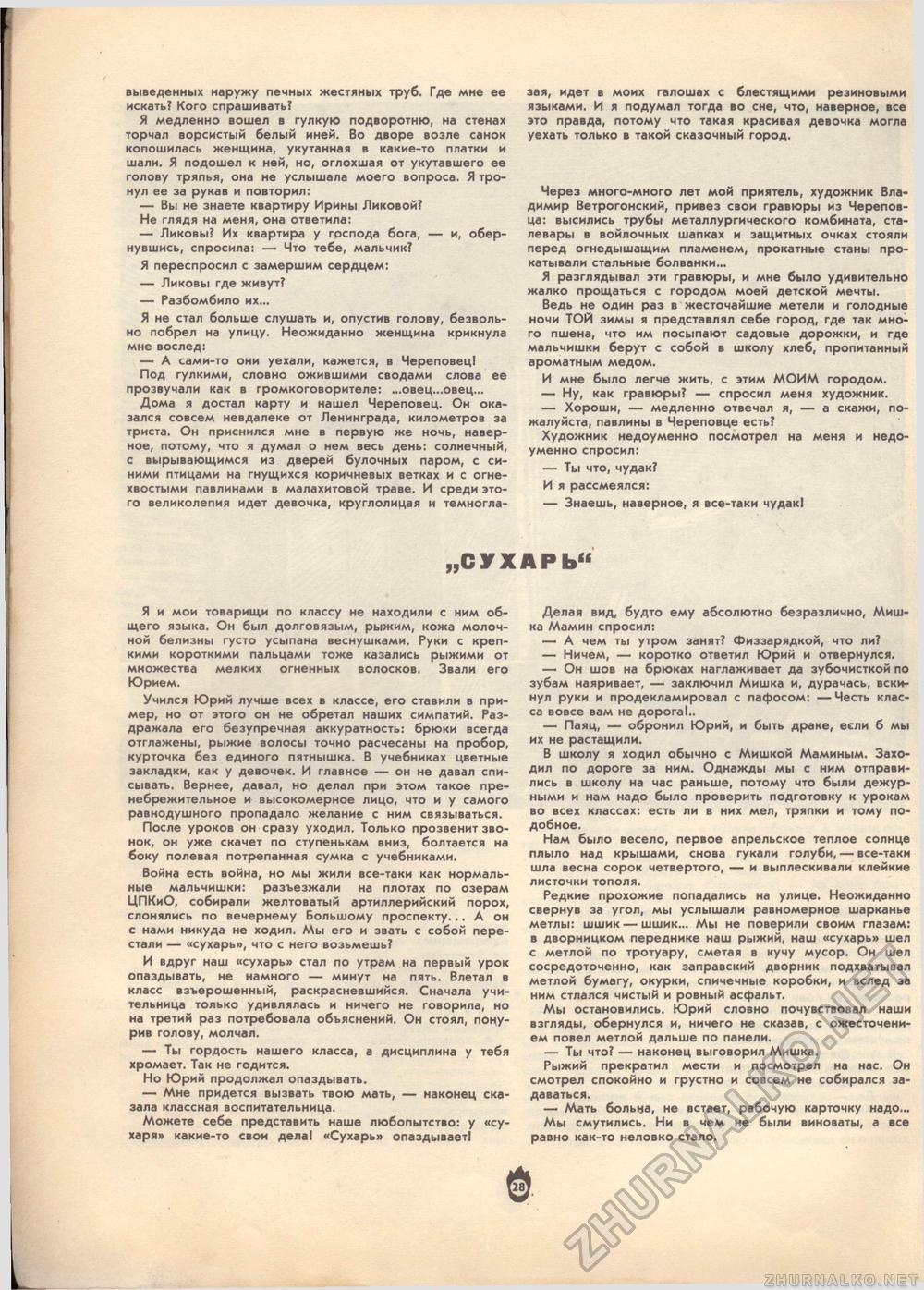
выведенных наружу печных жестяных труб. Где мне ее искать? Кого спрашивать? Я медленно вошел в гулкую подворотню, на стенах торчал ворсистый белый иней. Во дворе возле санок копошилась женщина, укутанная в какие-то платки и шали. Я подошел к ней, но, оглохшая от укутавшего ее голову тряпья, она не услышала моего вопроса. Я тронул ее за рукав и повторил: — Вы не знаете квартиру Ирины Ликовой? Не глядя на меня, она ответила: — Ликовы? Их квартира у господа бога, — и, обернувшись, спросила: — Что тебе, мальчик? Я переспросил с замершим сердцем: — Ликовы где живут? — Разбомбило их... Я не стал больше слушать и, опустив голову, безвольно побрел на улицу. Неожиданно женщина крикнула мне вослед: — А сами-то они уехали, кажется, в Череповец! Под гулкими, словно ожившими сводами слова ее прозвучали как в громкоговорителе: ...овец...овец... Дома я достал карту и нашел Череповец. Он оказался совсем невдалеке от Ленинграда, километров за триста. Он приснился мне в первую же ночь, наверное, потому, что я думал о нем весь день: солнечный, с вырывающимся из дверей булочных паром, с синими птицами на гнущихся коричневых ветках и с огне-хвостыми павлинами в малахитовой траве. И среди этого великолепия идет девочка, круглолицая и темногла зая, идет в моих галошах с блестящими резиновыми языками. И я подумал тогда во сне, что, наверное, все это правда, потому что такая красивая девочка могла уехать только в такой сказочный город. Через много-много лет мой приятель, художник Владимир Ветрогонский, привез свои гравюры из Череповца: высились трубы металлургического комбината, сталевары в войлочных шапках и защитных очках стояли перед огнедышащим пламенем, прокатные станы прокатывали стальные болванки,.. Я разглядывал эти гравюры, и мне было удивительно жалко прощаться с городом моей детской мечты. Ведь не один раз в жесточайшие метели и голодные ночи ТОЙ зимы я представлял себе город, где так много пшена, что им посыпают садовые дорожки, и где мальчишки берут с собой в школу хлеб, пропитанный ароматным медом. И мне было легче жить, с этим МОИМ городом. — Ну, как гравюры? — спросил меня художник. — Хороши, — медленно отвечал я, — а скажи, пожалуйста, павлины в Череповце есть? Художник недоуменно посмотрел на меня и недоуменно спросил: — Ты что, чудак? И я рассмеялся: — Знаешь, наверное, я все-таки чудак! СУХАРЬ" Я и мои товарищи по классу не находили с ним общего языка. Он был долговязым, рыжим, кожа молочной белизны густо усыпана веснушками. Руки с крепкими короткими пальцами тоже казались рыжими от множества мелких огненных волосков. Звали его Юрием. Учился Юрий лучше всех в классе, его ставили в пример, но от этого он не обретал наших симпатий. Раздражала его безупречная аккуратность: брюки всегда отглажены, рыжие волосы точно расчесаны на пробор, курточка без единого пятнышка. В учебниках цветные закладки, как у девочек. И главное — он не давал списывать. Вернее, давал, но делал при этом такое пренебрежительное и высокомерное лицо, что и у самого равнодушного пропадало желание с ним связываться. После уроков он сразу уходил. Только прозвенит звонок, он уже скачет по ступенькам вниз, болтается на боку полевая потрепанная сумка с учебниками. Война есть война, но мы жили все-таки как нормальные мальчишки: разъезжали на плотах по озерам ЦПКиО, собирали желтоватый артиллерийский порох, слонялись по вечернему Большому проспекту... А он с нами никуда не ходил. Мы его и звать с собой перестали — «сухарь», что с него возьмешь? И вдруг наш «сухарь» стал по утрам на первый урок опаздывать, не намного — минут на пять. Влетал в класс взъерошенный, раскрасневшийся. Сначала учительница только удивлялась и ничего не говорила, но на третий раз потребовала объяснений. Он стоял, понурив голову, молчал. — Ты гордость нашего класса, а дисциплина у тебя хромает. Так не годится. Но Юрий продолжал опаздывать. — Мне придется вызвать твою мать, — наконец сказала классная воспитательница. Можете себе представить наше любопытство: у «сухаря» какие-то свои дела! «Сухарь» опаздывает! Делая вид, будто ему абсолютно безразлично, Мишка Мамин спросил: — А чем ты утром занят? Физзарядкой, что ли? — Ничем, — коротко ответил Юрий и отвернулся. — Он шов на брюках наглаживает да зубочисткой по зубам наяривает, — заключил Мишка и, дурачась, вскинул руки и продекламировал с пафосом: — Честь класса вовсе вам не дорога!.. — Паяц, — обронил Юрий, и быть драке, если б мы их не растащили. В школу я ходил обычно с Мишкой Маминым. Заходил по дороге за ним. Однажды мы с ним отправились в школу на час раньше, потому что были дежурными и нам надо было проверить подготовку к урокам во всех классах: есть ли в них мел, тряпки и тому подобное. Нам было весело, первое апрельское теплое солнце плыло над крышами, снова гукали голуби, — все-таки шла весна сорок четвертого, — и выплескивали клейкие листочки тополя. Редкие прохожие попадались на улице. Неожиданно свернув за угол, мы услышали равномерное шарканье метлы: шшик — шшик... Мы не поверили своим глазам: в дворницком переднике наш рыжий, наш «сухарь» шел с метлой по тротуару, сметая в кучу мусор. Он шел сосредоточенно, как заправский дворник подхватывал метлой бумагу, окурки, спичечные коробки, и вслед за ним стлался чистый и ровный асфальт. Мы остановились. Юрий словно почувствовал наши взгляды, обернулся и, ничего не сказав, с ожесточением повел метлой дальше по панели. — Ты что? — наконец выговорил Мишка. Рыжий прекратил мести и посмотрел на нас. Он смотрел спокойно и грустно и совсем не собирался задаваться. — Мать больна, не встает, рабочую карточку надо... Мы смутились. Ни в чем не были виноваты, а все равно как-то неловко стало. © |








