Костёр 1972-01, страница 34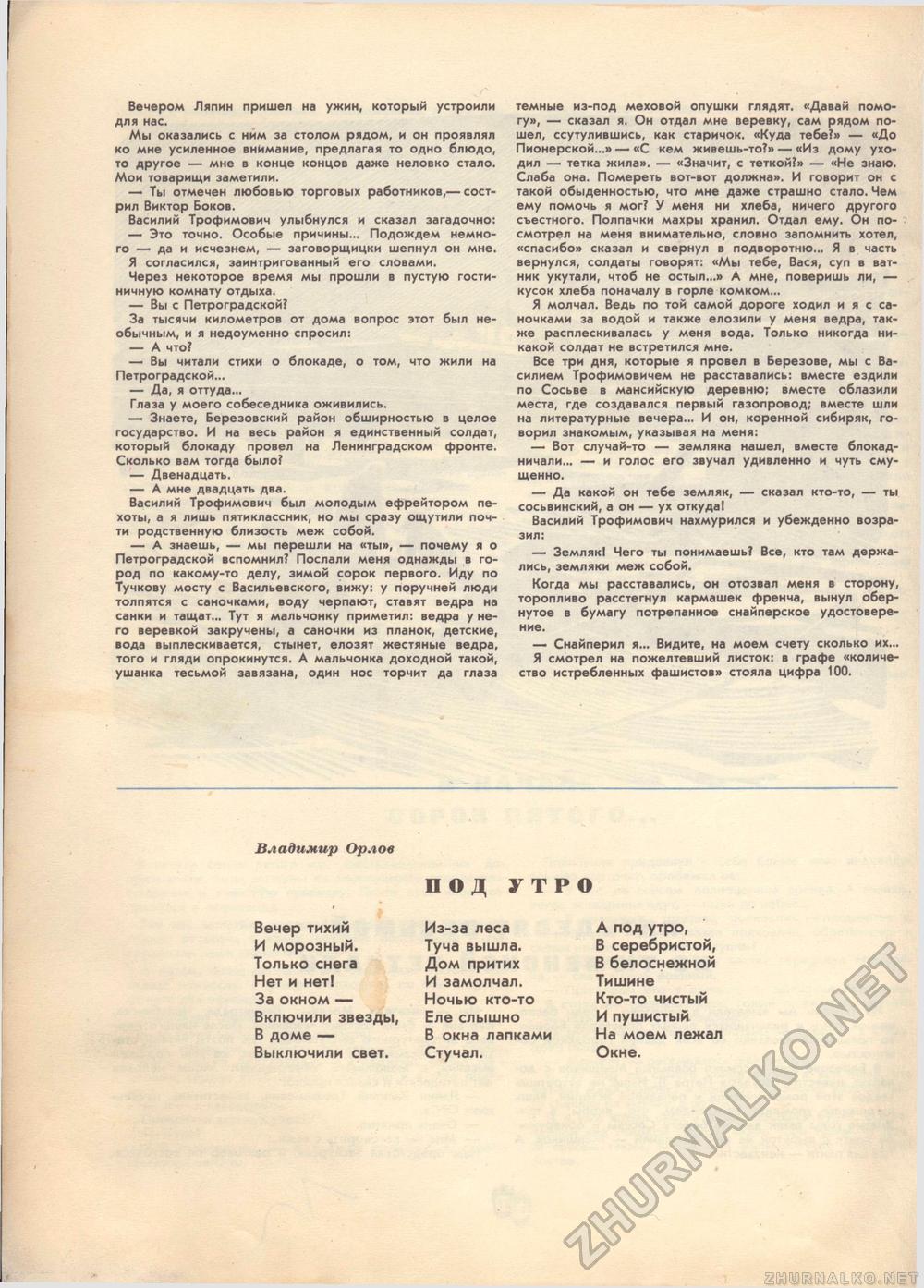
Вечером Ляпин пришел на ужин, который устроили для нас. Мы оказались с ним за столом рядом, и он проявлял ко мне усиленное внимание, предлагая то одно блюдо, то другое — мне в конце концов даже неловко стало. Мои товарищи заметили. — Ты отмечен любовью торговых работников,— сострил Виктор Боков. Василий Трофимович улыбнулся и сказал загадочно: — Это точно. Особые причины... Подождем немного — да и исчезнем, — заговорщицки шепнул он мне. Я согласился, заинтригованный его словами. Через некоторое время мы прошли в пустую гостиничную комнату отдыха. — Вы с Петроградской? За тысячи километров от дома вопрос этот был необычным, и я недоуменно спросил: — А что? — Вы читали стихи о блокаде, о том, что жили на Петроградской... — Да, я оттуда... Глаза у моего собеседника оживились. — Знаете, Березовский район обширностью в целое государство. И на весь район я единственный солдат, который блокаду провел на Ленинградском фронте. Сколько вам тогда было? — Двенадцать. — А мне двадцать два. Василий Трофимович был молодым ефрейтором пехоты, а я лишь пятиклассник, но мы сразу ощутили почти родственную близость меж собой. — А знаешь, — мы перешли на «ты», — почему я о Петроградской вспомнил? Послали меня однажды в город по какому-то делу, зимой сорок первого. Иду по Тучкову мосту с Васильевского, вижу: у поручней люди толпятся с саночками, воду черпают, ставят ведра на санки и тащат... Тут я мальчонку приметил: ведра у него веревкой закручены, а саночки из планок, детские, вода выплескивается, стынет, елозят жестяные ведра, того и гляди опрокинутся. А мальчонка доходной такой, ушанка тесьмой завязана, один нос торчит да глаза темные из-под меховой опушки глядят. «Давай помогу», — сказал я. Он отдал мне веревку, сам рядом пошел, ссутулившись, как старичок. «Куда тебе?» — «До Пионерской...» — «С кем живешь-то?» — «Из дому уходил — тетка жила». — «Значит, с теткой?» — «Не знаю. Слаба она. Помереть вот-вот должна». И говорит он с такой обыденностью, что мне даже страшно стало. Чем ему помочь я мог? У меня ни хлеба, ничего другого съестного. Полпачки махры хранил. Отдал ему. Он посмотрел на меня внимательно, словно запомнить хотел, «спасибо» сказал и свернул в подворотню... Я в часть вернулся, солдаты говорят: «Мы тебе, Вася, суп в ватник укутали, чтоб не остыл...» А мне, поверишь ли, — кусок хлеба поначалу в горле комком... Я молчал. Ведь по той самой дороге ходил и я с саночками за водой и также елозили у меня ведра, также расплескивалась у меня вода. Только никогда никакой солдат не встретился мне. Все три дня, которые я провел в Березове, мы с Василием Трофимовичем не расставались: вместе ездили по Сосьве в мансийскую деревню; вместе облазили места, где создавался первый газопровод; вместе шли на литературные вечера... И он, коренной сибиряк, говорил знакомым, указывая на меня: — Вот случай-то — земляка нашел, вместе блокад-ничали... — и голос его звучал удивленно и чуть смущенно. — Да какой он тебе земляк, — сказал кто-то, — ты сосьвинский,а он — ух откуда! Василий Трофимович нахмурился и убежденно возразил: — Земляк! Чего ты понимаешь? Все, кто там держались, земляки меж собой. Когда мы расставались, он отозвал меня в сторону, торопливо расстегнул кармашек френча, вынул обернутое в бумагу потрепанное снайперское удостоверение. — Снайперил я... Видите, на моем счету сколько их... Я смотрел на пожелтевший листок: в графе «количество истребленных фашистов» стояла цифра 100. Владимир Орлов Вечер тихий И морозный. Только снега Нет и нет! За окном — Включили звезды, В доме — Выключили свет. ПОД УТРО Из-за леса Туча вышла. Дом притих И замолчал. Ночью кто-то Еле слышно В окна лапками Стучал. А под утро, В серебристой, В белоснежной Тишине Кто-то чистый И пушистый На моем лежал Окне. |








