Костёр 1972-06, страница 36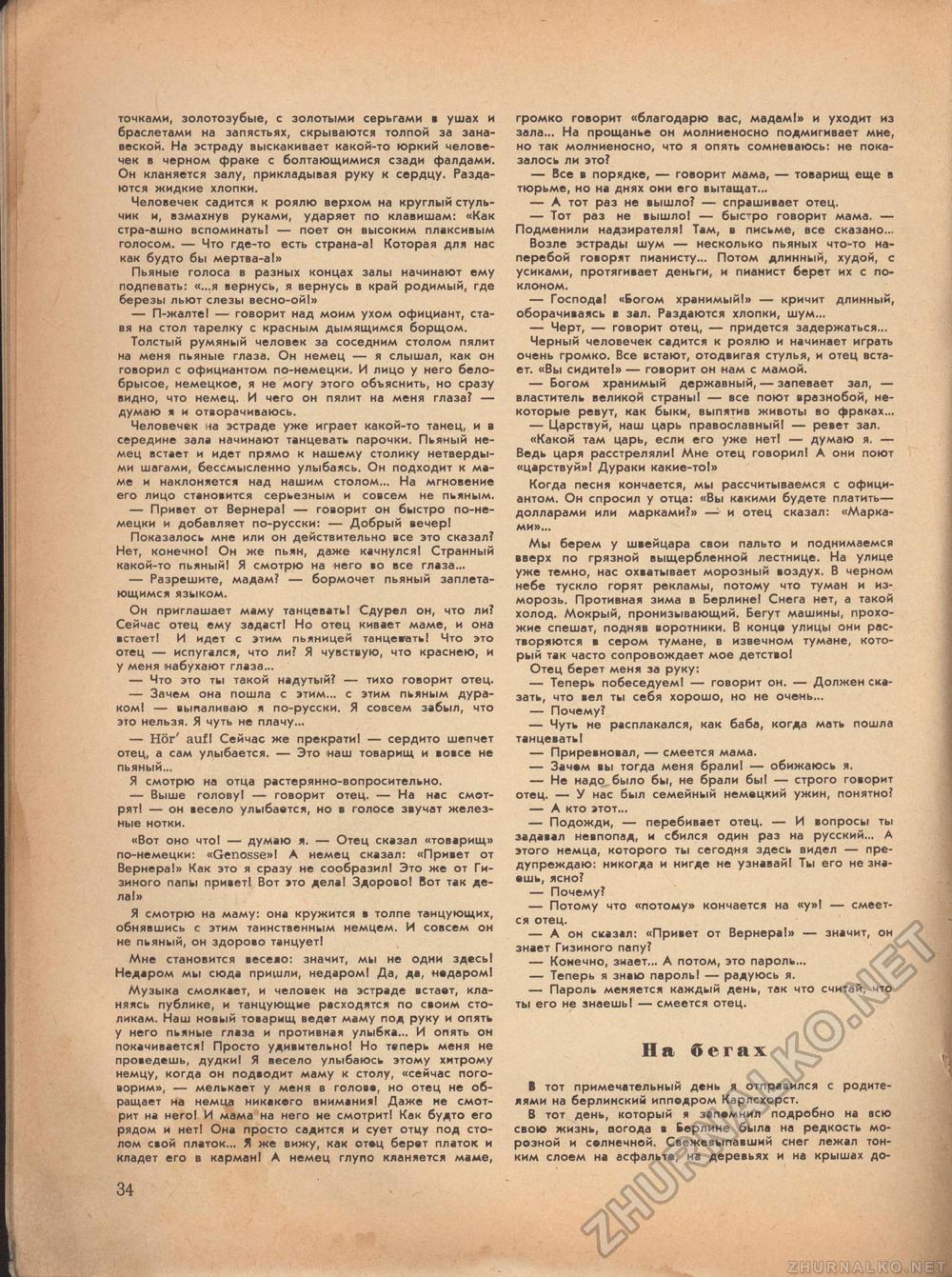
точками, золотозубые, с золотыми серьгами ■ ушах и браслетами на запястьях, скрываются толпой за занавеской. На эстраду выскакивает какой-то юркий человечек в черном фраке с болтающимися сзади фалдами. Он кланяется залу, прикладывая руку к сердцу. Раздаются жидкие хлопки. Человечек садится к роялю верхом на круглый стульчик и, взмахнув руками, ударяет по клавишам: «Как стра-ашно вспоминать! — поет он высоким плаксивым голосом. — Что где-то есть страна-а! Которая для нас как будто бы мертва-а!» Пьяные голоса в разных концах залы начинают ему подпевать: «...я вернусь, я вернусь в край родимый, где березы льют слезы весно-ой!» — П-жалте! — говорит над моим ухом официант, ставя на стол тарелку с красным дымящимся борщом. Толстый румяный человек за соседним столом пялит на меня пьяные глаза. Он немец — я слышал, как он говорил с официантом по-немецки. И лицо у него белобрысое, немецкое, я не могу этого объяснить, но сразу видно, что немец. И чего он пялит на меня глаза? — думаю я и отворачиваюсь. Человечек на эстраде уже играет какой-то танец, и в середине зала начинают танцевать парочки. Пьяный немец встает и идет прямо к нашему столику нетвердыми шагами, бессмысленно улыбаясь. Он подходит к маме и наклоняется над нашим столом... На мгновение его лицо становится серьезным и совсем не пьяным. — Привет от Вернера! — говорит он быстро по-не-мецки и добавляет по-русски: — Добрый вечер! Показалось мне или он действительно все это сказал? Нет, конечно! Он же пьян, даже качнулся! Странный какой-то пьяный! Я смотрю на него «о все глаза... — Разрешите, мадам? — бормочет пьяный заплетающимся языком. Он приглашает маму танцевать! Сдурел он, что ли? Сейчас отец ему задаст! Но отец кивает маме, и она встает! И идет с этим пьяницей танцев*ать! Что это отец — испугался, что ли? Я чувствую, что краснею, и у меня набухают глаза... — Что это ты такой надутый? — тихо говорит отец. — Зачем она пошла с этим... с этим пьяным дураком! — выпаливаю я по-русски. Я совсем забыл, что это нельзя. Я чуть не плачу... — Ног' auf! Сейчас же прекрати! — сердито шепчет отец, а сам улыбается. — Это наш товарищ и вовсе не пьяный... Я смотрю на отца растерянно-вопросительно. — Выше голову! — говорит отец. — На нас смотрят! — он весело улыбается, но в голосе звучат железные нотки. «Вот оно что! — думаю я. — Отец сказал «товарищ» по-немецки: «Genosse»! А немец сказал: «Привет от Вернера!» Как это я сразу не сообразил! Это же от Ги-зиного папы привет! Вот это дела! Здорово! Вот так дела!» Я смотрю на маму: она кружится в толпе танцующих, обнявшись с этим таинственным немцем. И совсем он не пьяный, он здорово танцует! Мне становится весеао: значит, мы не одни здесь! Недаром мы сюда пришли, недаром! Да, да, недаром! Музыка смолкает, и человек на эстраде встает, кланяясь публике, и танцующие расходятся по своим столикам. Наш новый товарищ ведет маму под руку и опять у него пьяные глаза и противная улыбка... И опять он покачивается! Просто удивительно! Но теперь меня не проведешь, дудки! Я весело улыбаюсь этому хитрому немцу, когда он подводит маму к столу, «сейчас поговорим», — мелькает у меня в голове, но отец не обращает на немца никаквго внимания! Даже не смотрит на него! И мама на него не смотрит! Как будто его рядом и нет! Она просто садится и сует отцу под столом свой платок... Я же вижу, как отец берет платок и кладет его в карман! А немец глупо кланяется маме, громко говорит «благодарю вас, мадам!» и уходит из зала... На прощанье он молниеносно подмигивает мне, но так молниеносно, что я опять сомневаюсь: не показалось ли это? — Все в порядке, — говорит мама, — товарищ еще в тюрьме, но на днях они его вытащат... — А тот раз не вышло? — спрашивает отец. — Тот раз не вышло! — быстро говорит мама. — Подменили надзирателя! Там, в письме, все сказано... Возле эстрады шум — несколько пьяных что-то наперебой говорят пианисту... Потом длинный, худой, с усиками, протягивает деньги, и пианист берет их с поклоном. — Господа! «Богом хранимый!» — кричит длинный, оборачиваясь е зал. Раздаются хлопки, шум... — Черт, — говорит отец, — придется задержаться... Черный человечек садится к роялю и начинает играть очень громко. Все встают, отодвигая стулья, и отец встает. «Вы сидите!» — говорит он нам с мамой. — Богом хранимый державный, — запевает зал, — властитель великой страны! — все поют вразнобой, некоторые ревут, как быки, выпятив животы во фраках... — Царствуй, наш царь православный! — ревет зал. «Какой там царь, если его уже нет! — думаю я. — Ведь царя расстреляли! Мне отец говорил! А они поют «царствуй»! Дураки какие-то!» Когда песня кончается, мы рассчитываемся с официантом. Он спросил у отца: «Вы какими будете платить— долларами или марками?» —: и отец сказал: «Марками»... Мы берем у швейцара свои пальто и поднимаемся вверх по грязной выщербленной лестнице. На улице уже темно, нас охватывает морозный воздух. В черном небе тускло горят рекламы, потому что туман и изморозь. Противная зима в Берлине! Снега нет, а такой холод. Мокрый, пронизывающий. Бегут машины, прохожие спешат, подняв воротники. В конце улицы они растворяются в сером тумане, в извечном тумане, который так часто сопровождает мое детство! Отец берет меня за руку: — Теперь побеседуем! — говорит он. — Должен сказать, что вел ты себя хорошо, но не очень... — Почему? — Чуть не расплакался, как баба, когда мать пошла танцевать! — Приревновал, — смеется мама. — Зачем вы тогда меня брали! — обижаюсь я. — Не надо,было бы, не брали бы! — строго говорит отец. — У нас был семейный немецкий ужин, понятно? — А кто этот... — Подожди, — перебивает отец. — И вопросы ты задавал невпопад, и сбился один раз на русский... А этого немца, которого ты сегодня здесь видел — предупреждаю: никогда и нигде не узнавай! Ты его не знаешь, ясно? — Почему? — Потому что «потому» кончается на «у»! — смеется отец. — А он сказал: «Привет от Вернера!» — значит, он знает Гизиного папу? — Конечно, знает... А потом, это пароль... — Теперь я знаю пароль! — радуюсь я. — Пароль меняется каждый день, так что считай, что ты его не знаешь! — смеется отец. На бегах В тот примечательный день я отправился с родителями на берлинский ипподром Карлсхорст. В тот день, который я запвмнил подробно на всю свою жизнь, погода в Берлине была на редкость морозной и солнечной. Свежевыпавший снег лежал тонким слоем на асфальте, на деревьях и на крышах до- 34 |








