Костёр 1972-06, страница 34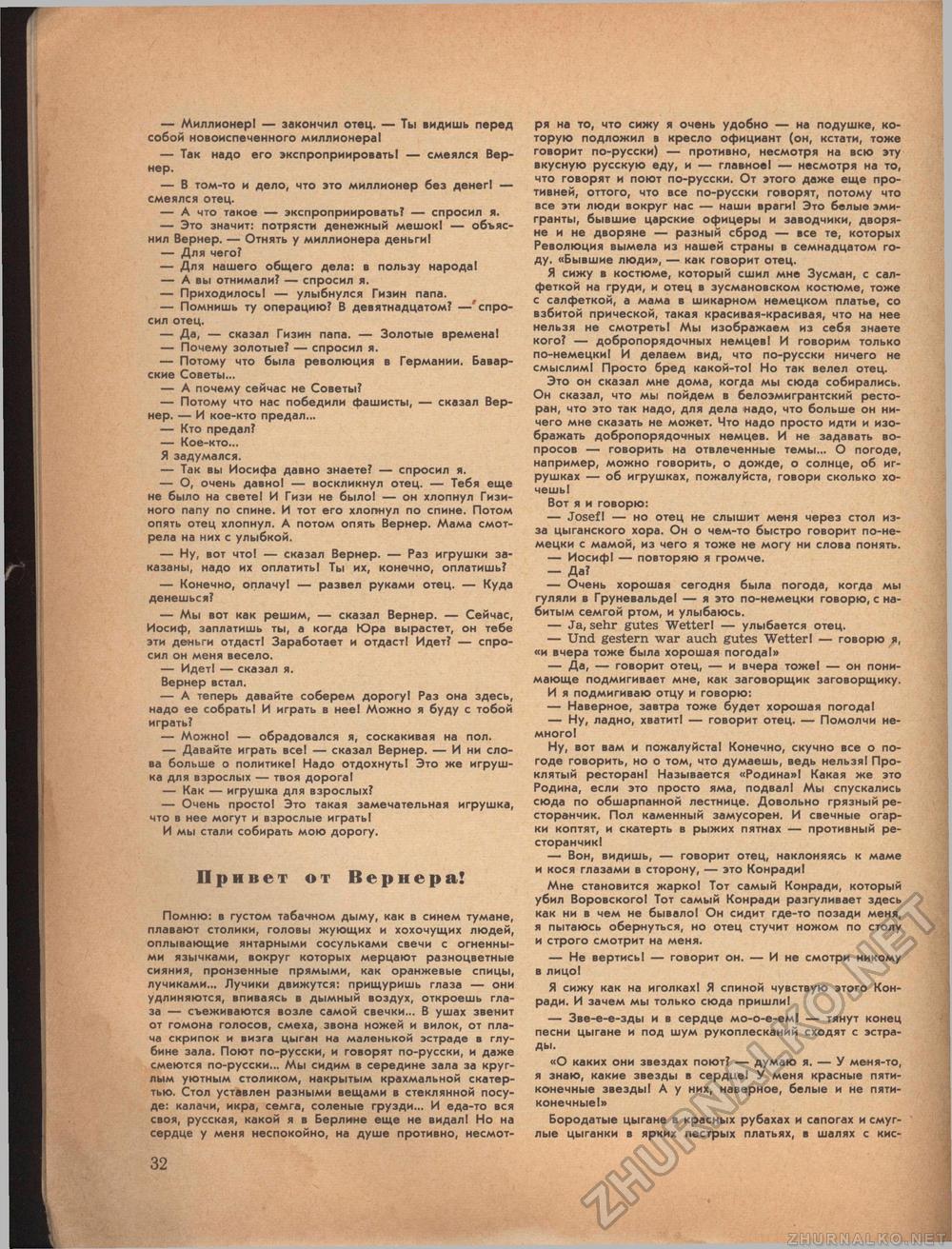
— Миллионер! — закончил отец. — Ты видишь перед собой новоиспеченного миллионера! — Так надо его экспроприировать! — смеялся Вер-нер. — В том-то и дело, что это миллионер без денег! — смеялся отец. — А что такое — экспроприировать? — спросил я. — Это значит: потрясти денежный мешок! — объяснил Вернер. — Отнять у миллионера деньги! — Для чего? — Для нашего общего дела: в пользу народа! — А вы отнимали? — спросил я. — Приходилось! — улыбнулся Гизин папа. — Помнишь ту операцию? В девятнадцатом? —'спросил отец. — Да, — сказал Гизин папа. — Золотые времена! — Почему золотые? — спросил я. — Потому что была революция в Германии. Баварские Советы... — А почему сейчас не Советы? — Потому что нас победили фашисты, — сказал Вернер. — И кое-кто предал... — Кто предал? — Кое-кто... Я задумался. — Так вы Иосифа давно знаете? — спросил я. — О, очень давно! — воскликнул отец. — Тебя еще не было на свете! И Гизи не было! — он хлопнул Гизи-ного папу по спине. И тот его хлопнул по спине. Потом опять отец хлопнул. А потом опять Вернер. Мама смотрела на них с улыбкой. — Ну, вот что! — сказал Вернер. — Раз игрушки заказаны, надо их оплатить! Ты их, конечно, оплатишь? — Конечно, оплачу! — развел руками отец. — Куда денешься? — Мы вот как решим, — сказал Вернер. — Сейчас, Иосиф, заплатишь ты, а когда Юра вырастет, он тебе эти деньги отдаст! Заработает и отдаст! Идет? — спросил он меня весело. — Идет! — сказал я. Вернер встал. — А теперь давайте соберем дорогу! Раз она здесь, надо ее собрать! И играть в нее! Можно я буду с тобой играть? — Можно! — обрадовался я, соскакивая на пол. — Давайте играть все! — сказал Вернер. — И ни слова больше о политике! Надо отдохнуть! Это же игрушка для взрослых — твоя дорога! — Как — игрушка для взрослых? — Очень просто! Это такая замечательная игрушка, что в нее могут и взрослые играть! И мы стали собирать мою дорогу. Привет от Вернер а! Помню: в густом табачном дыму, как в синем тумане, плавают столики, головы жующих и хохочущих людей, оплывающие янтарными сосульками свечи с огненными язычками, вокруг которых мерцают разноцветные сияния, пронзенные прямыми, как оранжевые спицы, лучиками... Лучики движутся: прищуришь глаза — они удлиняются, впиваясь в дымный воздух, откроешь глаза — съеживаются возле самой свечки... В ушах звенит от гомона голосов, смеха, звона ножей и вилок, от плача скрипок и визга цыган на маленькой эстраде в глубине зала. Поют по-русски, и говорят по-русски, и даже смеются по-русски... Мы сидим в середине зала за круглым уютным столиком, накрытым крахмальной скатертью. Стол уставлен разными вещами в стеклянной посуде: калачи, икра, семга, соленые грузди... И еда-то вся своя, русская, какой я в Берлине еще не видал! Но на сердце у меня неспокойно, на душе противно, несмот ря на то, что сижу я очень удобно — на подушке, которую подложил в кресло официант (он, кстати, тоже говорит по-русски) — противно, несмотря на всю эту вкусную русскую еду, и — главное! — несмотря на то, что говорят и поют по-русски. От этого даже еще противней, оттого, что все по-русски говорят, потому что все эти люди вокруг нас — наши враги! Это белые эмигранты, бывшие царские офицеры и заводчики, дворяне и не дворяне — разный сброд — все те, которых Революция вымела из нашей страны в семнадцатом году. «Бывшие люди», — как говорит отец. Я сижу в костюме, который сшил мне Зусман, с салфеткой на груди, и отец в зусмановском костюме, тоже с салфеткой, а мама в шикарном немецком платье, со взбитой прической, такая красивая-красивая, что на нее нельзя не смотреть! Мы изображаем из себя знаете кого? — добропорядочных немцев! И говорим только по-немецки! И делаем вид, что по-русски ничего не смыслим! Просто бред какой-то! Но так велел отец. Это он сказал мне дома, когда мы сюда собирались. Он сказал, что мы пойдем в белоэмигрантский ресторан, что это так надо, для дела надо, что больше он ничего мне сказать не может. Что надо просто идти и изображать добропорядочных немцев. И не задавать вопросов — говорить на отвлеченные темы... О погоде, например, можно говорить, о дожде, о солнце, об игрушках — об игрушках, пожалуйста, говори сколько хочешь! Вот я и говорю: — Josef! — но отец не слышит меня через стол из-за цыганского хора. Он о чем-то быстро говорит по-немецки с мамой, из чего я тоже не могу ни слова понять. — Иосиф! — повторяю я громче. — Да? — Очень хорошая сегодня была погода, когда мы гуляли в Груневальде! — я это по-немецки говорю, с набитым семгой ртом, и улыбаюсь. — Ja, sehr gutes Wetter! — улыбается отец. — Und gestern war auch gutes Wetter! — говорю я, «и вчера тоже была хорошая погода!» — Да, — говорит отец, — и вчера тоже! — он понимающе подмигивает мне, как заговорщик заговорщику. И я подмигиваю отцу и говорю: — Наверное, завтра тоже будет хорошая погода! — Ну, ладно, хватит! — говорит отец. — Помолчи немного! Ну, вот вам и пожалуйста! Конечно, скучно все о погоде говорить, но о том, что думаешь, ведь нельзя! Проклятый ресторан! Называется «Родина»! Какая же это Родина, если это просто яма, подвал! Мы спускались сюда по обшарпанной лестнице. Довольно грязный ресторанчик. Пол каменный замусорен. И свечные огарки коптят, и скатерть в рыжих пятнах — противный ресторанчик! — Вон, видишь, — говорит отец, наклоняясь к маме и кося глазами в сторону, — это Конради! Мне становится жарко! Тот самый Конради, который убил Воровского! Тот самый Конради разгуливает здесь как ни в чем не бывало! Он сидит где-то позади меня, я пытаюсь обернуться, но отец стучит ножом по столу и строго смотрит на меня. — Не вертись! — говорит он. — И не смотри никому в лицо! Я сижу как на иголках! Я спиной чувствую этого Конради. И зачем мы только сюда пришли! — Зве-е-е-зды и в сердце мо-о-е-ем1 — тянут конец песни цыгане и под шум рукоплесканий сходят с эстрады. «О каких они звездах поют? — думаю я. — У меня-то, я знаю, какие звезды в сердце! У меня красные пятиконечные звезды! А у них, наверное, белые и не пятиконечные!» Бородатые цыгане в красных рубахах и сапогах и смуглые цыганки в ярких пестрых платьях, в шалях с кис- 32 |








