Костёр 1976-09, страница 36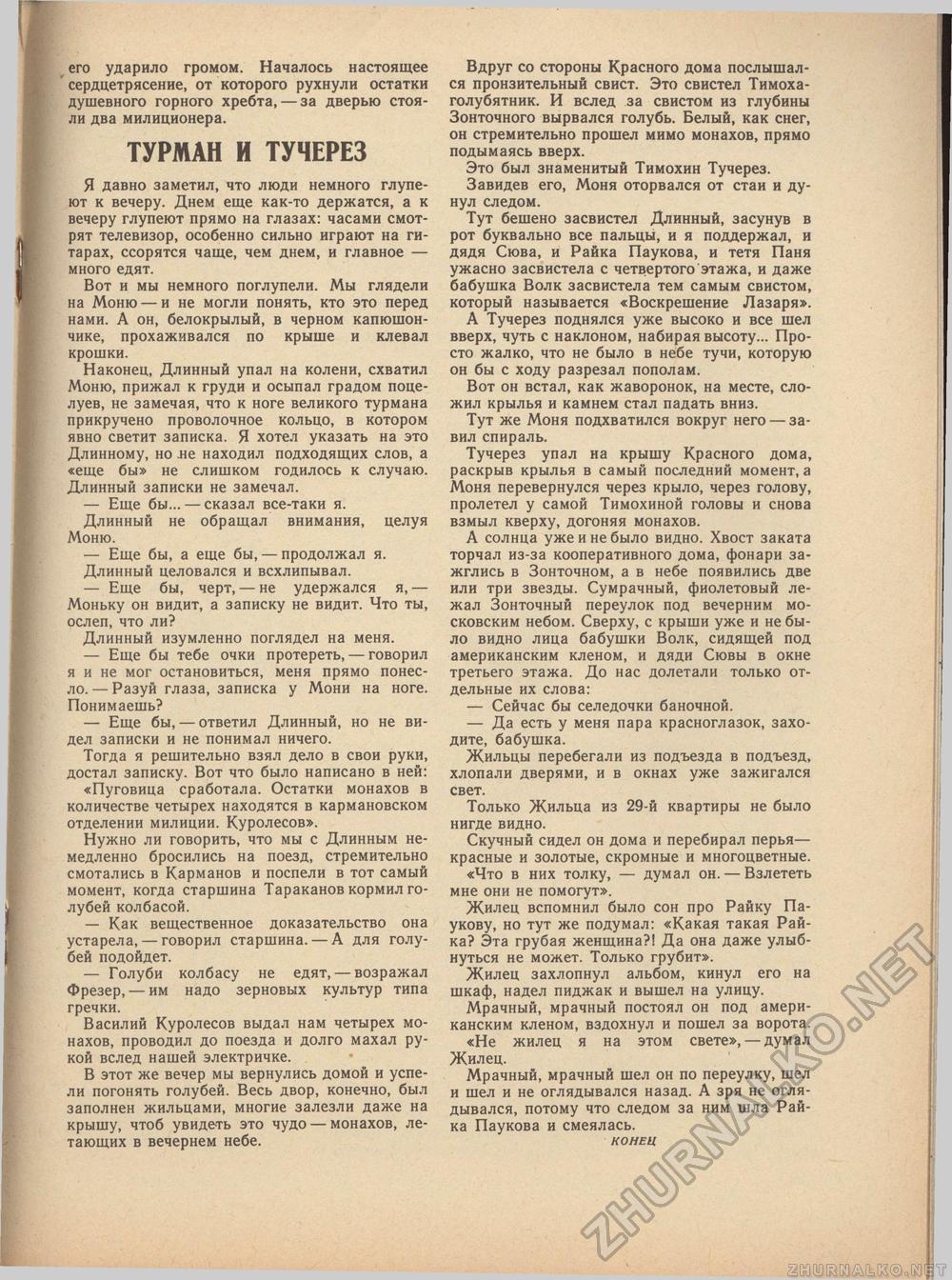
его ударило громом. Началось настоящее сердцетрясение, от которого рухнули остатки душевного горного хребта, — за дверью стояли два милиционера. ТУРМАН И ТУЧЕРЕЗ Я давно заметил, что люди немного глупеют к вечеру. Днем еще как-то держатся, а к вечеру глупеют прямо на глазах: часами смотрят телевизор, особенно сильно играют на гитарах, ссорятся чаще, чем днем, и главное — много едят. Вот и мы немного поглупели. Мы глядели на Моню — и не могли понять, кто это перед нами. А он, белокрылый, в черном капюшон-чике, прохаживался по крыше и клевал крошки. Наконец, Длинный упал на колени, схватил Моню, прижал к груди и осыпал градом поцелуев, не замечая, что к ноге великого турмана прикручено проволочное кольцо, в котором явно светит записка. Я хотел указать на это Длинному, но .не находил подходящих слов, а «еще бы» не слишком годилось к случаю. Длинный записки не замечал. — Еще бы... — сказал все-таки я. Длинный не обращал внимания, целуя Моню. — Еще бы, а еще бы, — продолжал я. Длинный целовался и всхлипывал. — Еще бы, черт, — не удержался я, — Моньку он видит, а записку не видит. Что ты, ослеп, что ли? Длинный изумленно поглядел на меня. — Еще бы тебе очки протереть, — говорил я и не мог остановиться, меня прямо понесло. — Разуй глаза, записка у Мони на ноге. Понимаешь? — Еще бы, — ответил Длинный, но не видел записки и не понимал ничего. Тогда я решительно взял дело в свои руки, достал записку. Вот что было написано в ней: «Пуговица сработала. Остатки монахов в количестве четырех находятся в кармановском отделении милиции. Куролесов». Нужно ли говорить, что мы с Длинным немедленно бросились на поезд, стремительно смотались в Карманов и поспели в тот самый момент, когда старшина Тараканов кормил голубей колбасой. — Как вещественное доказательство она устарела, — говорил старшина. — А для голубей подойдет. — Голуби колбасу не едят, — возражал Фрезер, — им надо зерновых культур типа гречки. Василий Куролесов выдал нам четырех монахов, проводил до поезда и долго махал рукой вслед нашей электричке. В этот же вечер мы вернулись домой и успели погонять голубей. Весь двор, конечно, был заполнен жильцами, многие залезли даже на крышу, чтоб увидеть это чудо — монахов, летающих в вечернем небе. Вдруг со стороны Красного дома послышался пронзительный свист. Это свистел Тимоха-голубятник. И вслед за свистом из глубины Зонточного вырвался голубь. Белый, как снег, он стремительно прошел мимо монахов, прямо подымаясь вверх. Это был знаменитый Тимохин Тучерез. Завидев его, Моня оторвался от стаи и дунул следом. Тут бешено засвистел Длинный, засунув в рот буквально все пальцы, и я поддержал, и дядя Сюва, и Райка Паукова, и тетя Паня ужасно засвистела с четвертого этажа, и даже бабушка Волк засвистела тем самым свистом, который называется «Воскрешение Лазаря». А Тучерез поднялся уже высоко и все шел вверх, чуть с наклоном, набирая высоту... Просто жалко, что не было в небе тучи, которую он бы с ходу разрезал пополам. Вот он встал, как жаворонок, на месте, сложил крылья и камнем стал падать вниз. Тут же Моня подхватился вокруг него — завил спираль. Тучерез упал на крышу Красного дома, раскрыв крылья в самый последний момент, а Моня перевернулся через крыло, через голову, пролетел у самой Тимохиной головы и снова взмыл кверху, догоняя монахов. А солнца уже и не было видно. Хвост заката торчал из-за кооперативного дома, фонари зажглись в Зонточном, а в небе появились две или три звезды. Сумрачный, фиолетовый лежал Зонточный переулок под вечерним московским небом. Сверху, с крыши уже и не было видно лица бабушки Волк, сидящей под американским кленом, и дяди Сювы в окне третьего этажа. До нас долетали только отдельные их слова: — Сейчас бы селедочки баночной. — Да есть у меня пара красноглазок, заходите, бабушка. Жильцы перебегали из подъезда в подъезд, хлопали дверями, и в окнах уже зажигался свет. Только Жильца из 29-й квартиры не было нигде видно. Скучный сидел он дома и перебирал перья— красные и золотые, скромные и многоцветные. «Что в них толку, — думал он. — Взлететь мне они не помогут». Жилец вспомнил было сон про Райку Па-укову, но тут же подумал: «Какая такая Райка? Эта грубая женщина?! Да она даже улыбнуться не может. Только грубит». Жилец захлопнул альбом, кинул его на шкаф, надел пиджак и вышел на улицу. Мрачный, мрачный постоял он под американским кленом, вздохнул и пошел за ворота. «Не жилец я на этом свете», — думал Жилец. Мрачный, мрачный шел он по переулку, шел и шел и не оглядывался назад. А зря не оглядывался, потому что следом за ним шла Райка Паукова и смеялась. КОНЕЦ |








