Костёр 1977-10, страница 35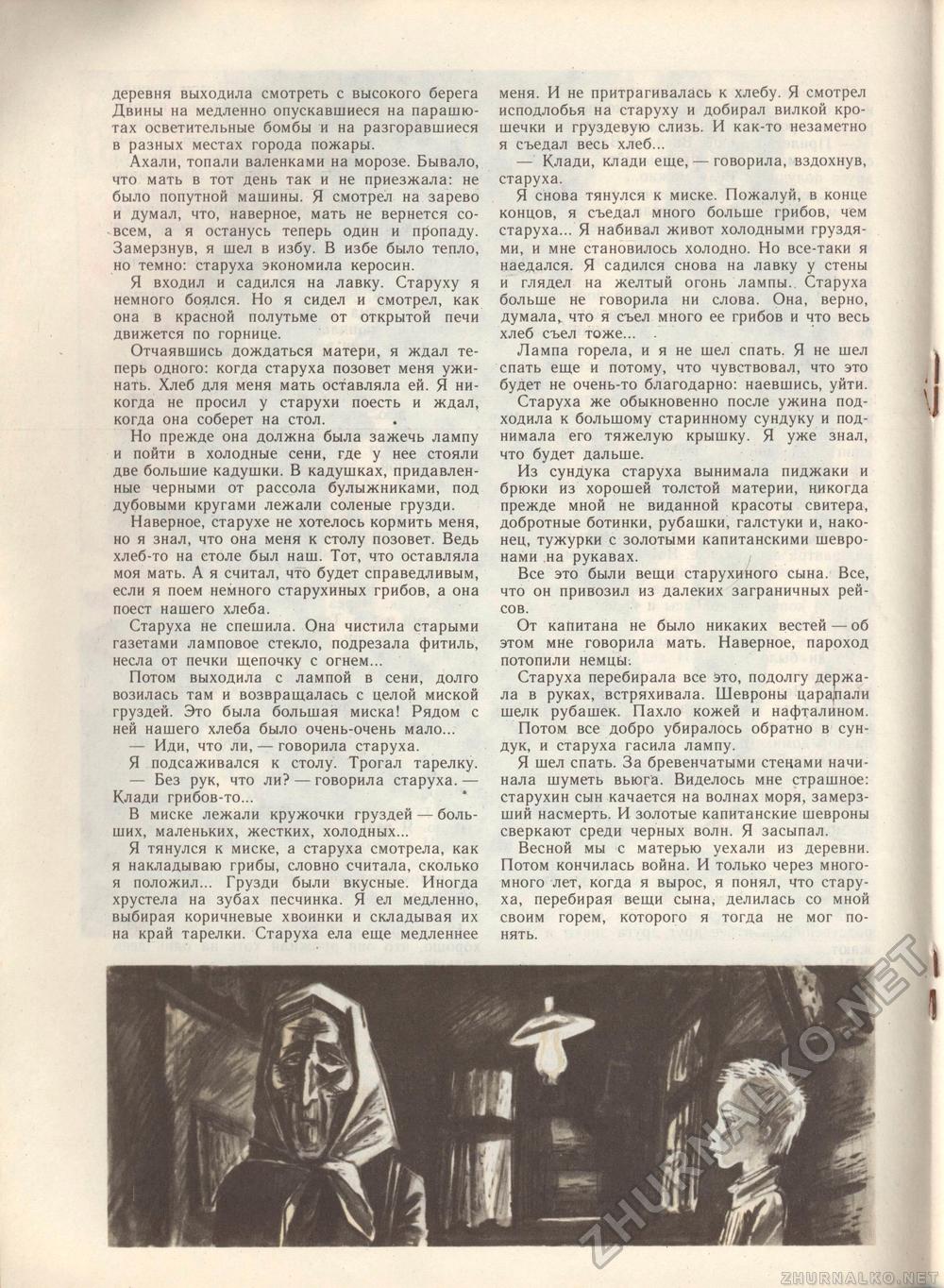
деревня выходила смотреть с высокого берега Двины на медленно опускавшиеся на парашютах осветительные бомбы и на разгоравшиеся в разных местах города пожары. Ахали, топали валенками на морозе. Бывало, что мать в тот день так и не приезжала: не было попутной машины. Я смотрел на зарево и думал, что, наверное, мать не вернется совсем, а я останусь теперь один и пропаду. Замерзнув, я шел в избу. В избе было тепло, но темно: старуха экономила керосин. Я входил и садился на лавку. Старуху я немного боялся. Но я сидел и смотрел, как она в красной полутьме от открытой печи движется по горнице. Отчаявшись дождаться матери, я ждал теперь одного: когда старуха позовет меня ужинать. Хлеб для меня мать оставляла ей. Я никогда не просил у старухи поесть и ждал, когда она соберет на стол. Но прежде она должна была зажечь лампу и пойти в холодные сени, где у нее стояли две большие кадушки. В кадушках, придавленные черными от рассола булыжниками, под дубовыми кругами лежали соленые грузди. Наверное, старухе не хотелось кормить меня, но я знал, что она меня к столу позовет. Ведь хлеб-то на столе был наш. Тот, что оставляла моя мать. А я считал, что будет справедливым, если я поем немного старухиных грибов, а она поест нашего хлеба. Старуха не спешила. Она чистила старыми газетами ламповое стекло, подрезала фитиль, несла от печки щепочку с огнем... Потом выходила с лампой в сени, долго возилась там и возвращалась с целой миской груздей. Это была большая миска! Рядом с ней нашего хлеба было очень-очень мало... — Иди, что ли, — говорила старуха. Я подсаживался к столу. Трогал тарелку. — Без рук, что ли? — говорила старуха. — Клади грибов-то... В миске лежали кружочки груздей — больших, маленьких, жестких, холодных... Я тянулся к миске, а старуха смотрела, как я накладываю грибы, словно считала, сколько я положил... Грузди были вкусные. Иногда хрустела на зубах песчинка. Я ел медленно, выбирая коричневые хвоинки и складывая их на край тарелки. Старуха ела еще медленнее меня. И не притрагивалась к хлебу. Я смотрел исподлобья на старуху и добирал вилкой крошечки и груздевую слизь. И как-то незаметно я съедал весь хлеб... — Клади, клади еще, — говорила, вздохнув, старуха. Я снова тянулся к миске. Пожалуй, в конце концов, я съедал много больше грибов, чем старуха... Я набивал живот холодными груздями, и мне становилось холодно. Но все-таки я наедался. Я садился снова на лавку у стены и глядел на желтый огонь лампы. Старуха больше не говорила ни слова. Она, верно, думала, что я съел много ее грибов и что весь хлеб съел тоже... . Лампа горела, и я не шел спать. Я не шел спать еще и потому, что чувствовал, что это будет не очень-то благодарно: наевшись, уйти. Старуха же обыкновенно после ужина подходила к большому старинному сундуку и поднимала его тяжелую крышку. Я уже знал, что будет дальше. Из сундука старуха вынимала пиджаки и брюки из хорошей толстой материи, никогда прежде мной не виданной красоты свитера, добротные ботинки, рубашки, галстуки и, наконец, тужурки с золотыми капитанскими шевронами на рукавах. Все это были вещи старухиного сына. Все, что он привозил из далеких заграничных рейсов. От капитана не было никаких вестей — об этом мне говорила мать. Наверное, пароход потопили немцы. Старуха перебирала все это, подолгу держала в руках, встряхивала. Шевроны царарали шелк рубашек. Пахло кожей и нафталином. Потом все добро убиралось обратно в сундук, и старуха гасила лампу. Я шел спать. За бревенчатыми стенами начинала шуметь вьюга. Виделось мне страшное: старухин сын качается на волнах моря, замерзший насмерть. И золотые капитанские шевроны сверкают среди черных волн. Я засыпал. Весной мы с матерью уехали из деревни. Потом кончилась война. И только через много-много лет, когда я вырос, я понял, что старуха, перебирая вещи сына, делилась со мной своим горем, которого я тогда не мог понять. |








