Костёр 1977-10, страница 45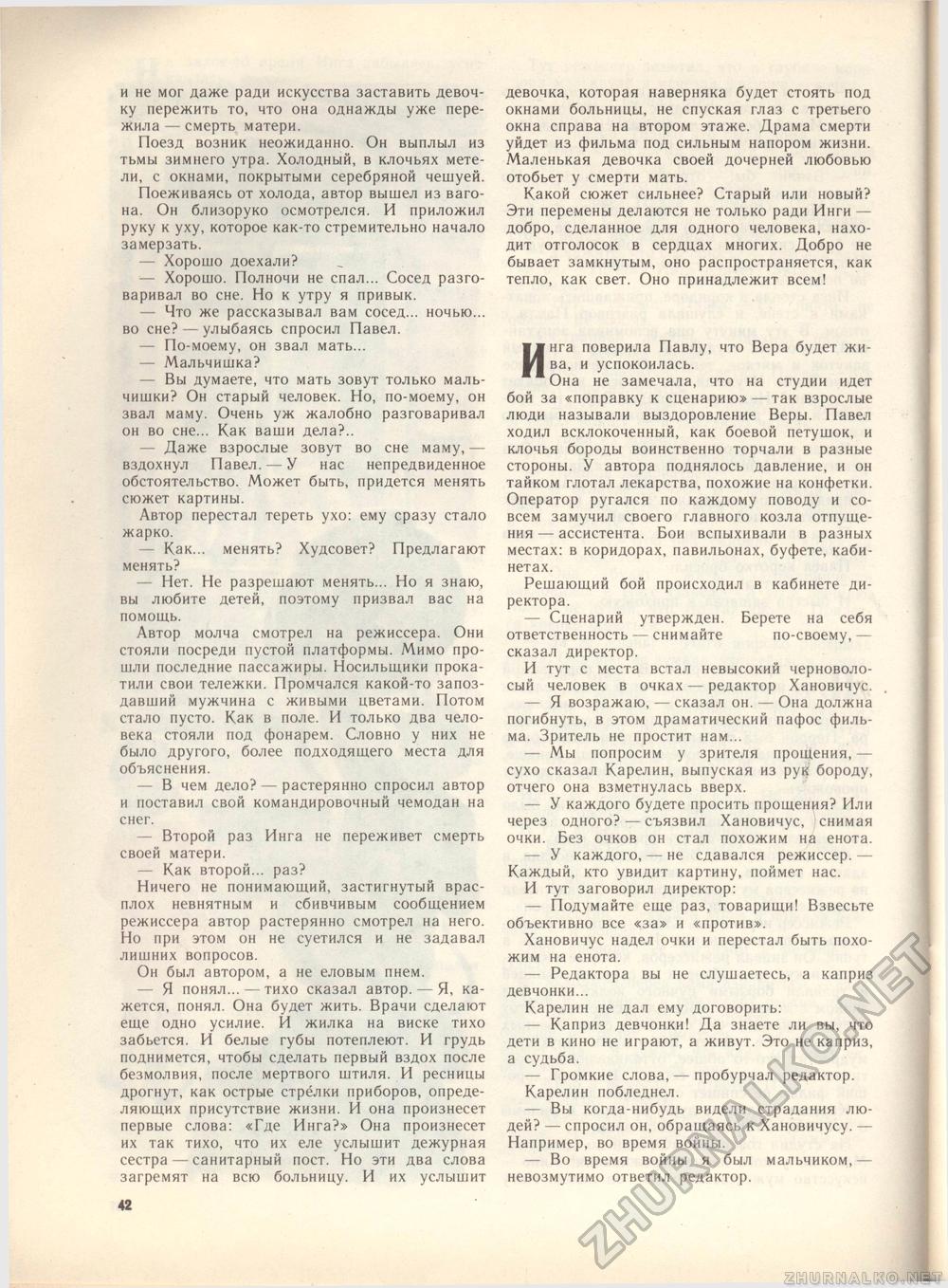
и не мог даже ради искусства заставить девочку пережить то, что она однажды уже пережила— смерть матери. Поезд возник неожиданно. Он выплыл из тьмы зимнего утра. Холодный, в клочьях метели, с окнами, покрытыми серебряной чешуей. Поеживаясь от холода, автор вышел из вагона. Он близоруко осмотрелся. И приложил руку к уху, которое как-то стремительно начало замерзать. — Хорошо доехали? — Хорошо. Полночи не спал... Сосед разговаривал во сне. Но к утру я привык. — Что же рассказывал вам сосед... ночью... во сне? — улыбаясь спросил Павел. — По-моему, он звал мать... — Мальчишка? — Вы думаете, что мать зовут только мальчишки? Он старый человек. Но, по-моему, он звал маму. Очень уж жалобно разговаривал он во сне... Как ваши дела?.. — Даже взрослые зовут во сне маму, — вздохнул Павел. — У нас непредвиденное обстоятельство. Может быть, придется менять сюжет картины. Автор перестал тереть ухо: ему сразу стало жарко. — Как... менять? Худсовет? Предлагают менять? — Нет. Не разрешают менять... Но я знаю, вы любите детей, поэтому призвал вас на помощь. Автор молча смотрел на режиссера. Они стояли посреди пустой платформы. Мимо прошли последние пассажиры. Носильщики прокатили свои тележки. Промчался какой-то запоздавший мужчина с живыми цветами. Потом стало пусто. Как в поле. И только два человека стояли под фонарем. Словно у них не было другого, более подходящего места для объяснения. — В чем дело? — растерянно спросил автор и поставил свой командировочный чемодан на снег. — Второй раз Инга не переживет смерть своей матери. — Как второй... раз? Ничего не понимающий, застигнутый врасплох невнятным и сбивчивым сообщением режиссера автор растерянно смотрел на него. Но при этом он не суетился и не задавал лишних вопросов. Он был автором, а не еловым пнем. — Я понял... — тихо сказал автор. — Я, кажется, понял. Она будет жить. Врачи сделают еще одно усилие. И жилка на виске тихо забьется. И белые губы потеплеют. И грудь поднимется, чтобы сделать первый вздох после безмолвия, после мертвого штиля. И ресницы дрогнут, как острые стрелки приборов, определяющих присутствие жизни. И она произнесет первые слова: «Где Инга?» Она произнесет их так тихо, что их еле услышит дежурная сестра — санитарный пост. Но эти два слова загремят на всю больницу. И их услышит девочка, которая наверняка будет стоять под окнами больницы, не спуская глаз с третьего окна справа на втором этаже. Драма смерти уйдет из фильма под сильным напором жизни. Маленькая девочка своей дочерней любовью отобьет у смерти мать. Какой сюжет сильнее? Старый или новый? Эти перемены делаются не только ради Инги — добро, сделанное для одного человека, находит отголосок в сердцах многих. Добро не бывает замкнутым, оно распространяется, как тепло, как свет. Оно принадлежит всем! Инга поверила Павлу, что Вера будет жива, и успокоилась. Она не замечала, что на студии идет бой за «поправку к сценарию» — так взрослые люди называли выздоровление Веры. Павел ходил всклокоченный, как боевой петушок, и клочья бороды воинственно торчали в разные стороны. У автора поднялось давление, и он тайком глотал лекарства, похожие на конфетки. Оператор ругался по каждому поводу и совсем замучил своего главного козла отпущения — ассистента. Бои вспыхивали в разных местах: в коридорах, павильонах, буфете, кабинетах. Решающий бой происходил в кабинете директора. — Сценарий утвержден. Берете на себя ответственность — снимайте по-своему, — сказал директор. И тут с места встал невысокий черноволосый человек в очках — редактор Хановичус. — Я возражаю, — сказал он. — Она должна погибнуть, в этом драматический пафос фильма. Зритель не простит нам... — Мы попросим у зрителя прощения, — сухо сказал Карелин, выпуская из рук бороду, отчего она взметнулась вверх. — У каждого будете просить прощения? Или через одного? — съязвил Хановичус, снимая очки. Без очков он стал похожим на енота. — У каждого, — не сдавался режиссер. — Каждый, кто увидит картину, поймет нас. И тут заговорил директор: — Подумайте еще раз, товарищи! Взвесьте объективно все «за» и «против». Хановичус надел очки и перестал быть похожим на енота. — Редактора вы не слушаетесь, а каприз девчонки... Карелин не дал ему договорить: — Каприз девчонки! Да знаете ли вы, что дети в кино не играют, а живут. Это не каприз, а судьба. — Громкие слова, — пробурчал редактор. Карелин побледнел. — Вы когда-нибудь видели страдания людей? — спросил он, обращаясь к Хановичусу. — Например, во время войны. — Во время войны я был мальчиком, — невозмутимо ответил редактор. 42 |








